Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [91]
Однако Пастернак не был бы самим собой, если бы его поэтическое врастание в действительность удовлетворилось лишь тотально-обобщенным образом «сидения». Стихотворение обставляет этот новейший бытовой сюжет конкретными деталями и их языковыми идиоматическими слепками с такой же укорененностью в рутине повседневности, с какой в иное время это происходило с осенним походом на чердак, играми в нагретом солнцем саду или ночной прогулкой к полузаброшенной деревенской купальне. Осины под снегом оказываются в положении «подследственных». Выбор именно осины для этой роли мотивируется поговоркой ‘дрожит как осина’ (или ‘как осиновый лист’); дрожание подследственных осин объясняется, конечно, не только холодным вихрем. Дополнительную остроту образу придает проглядывающий в нем поэтический прототип — лермонтовская Сосна, покрытая снегом, «как ризой». В новой действительности на смену дремотному одиночеству сосны приходит коллективность «десятков» подследственных осин, тщетно надеющихся «укрыться» под снегом, нанесенным ночным вихрем. Пародирование классических стихов в применении к советским реалиям было органическим компонентом дискурсов эпохи:
Конкретный предмет следствия, под которое попали осины, выясняется из целого ряда дальнейших деталей. Выражение ‘охулки на руку не положит’ — о ловкости, с какой взятка мгновенно соскальзывает в ладонь принимающего (как образ входит в образ), — служило общепонятным знаком чиновничьего быта в предшествующем столетии; теперь оно предстает как намек на кампанию «борьбы с взяточничеством» и связанными с нею массовыми судебными преследованиями. Ключевое слово «взятки» не заставляет себя долго ждать, однако его появление сопровождается характерным соскальзыванием в иное идиоматическое пространство: «повалят с неба взятки» указывает на ситуацию азартной карточной игры, с ее типовыми восклицаниями — ‘взятки [то есть удачные карты] так и повалили’, ‘удача привалила’, ‘как с неба свалилось’. В данном случае повалившей, как снег, удачей оказываются «взятки» в буквальном смысле, возможно, призванные компенсировать картежный проигрыш и растрату казенных денег в уплату долга (распространеннейший литературный сюжет эпохи НЭПа). Возможно, взятка была дана с тем, чтобы известное дело было положено ‘под сукно’ — буквально, укрыто снежными сугробами поваливших с неба взяток. Наконец, «десятки» в контексте языка эпохи явственно указывают на высоко ценимый и вместе с тем опасный предмет: золотые «десятки» или «червонцы» дореволюционного времени. «Десятки» были одним из наиболее типичных искомых предметов в кампании «изъятия золота у населения», инструментом которой служило относительно кратковременное заключение в тюрьму лиц, подозреваемых в сокрытии государственно важного продукта. (Все это красочно описано в «Мастере и Маргарите» у Булгакова, в главе, в свое время «изъятой» из советского издания романа.)
Из этого вихря разрозненных фрагментов смысла вырисовывается, как сквозь пелену метели, смысловое поле судебных следствий по делам служебных преступлений — взяток, растрат (часто на почве карточной игры), укрывательства валюты, служебной «халатности» — и связанного со всем этим «сидения» и ночных страхов в качестве укорененной бытовой реальности «дней», в образ которых герой входит своим пожизненным сидением. Задача явно не полезна его сердцу; его «опавшая» сердечная мышца возвращает нас к ситуации визита к врачу и неисполнимого совета покончить с сидячей жизнью — но симультанно с этим также напоминает об идиоме ‘душа в пятки ушла’.
Теперь мы видим, что между вдохновенным вхождением «в образ» и школьным зубрежным «сидением» под страхом порки нет противоречия. Страхи, стесненность «сидячей жизни», ощущение подследственной просвеченности, подневольная коллективность, — это и есть образ новой действительности. Войти — или даже, подобно коллективизированному крестьянину, болезненно «врасти» в этот образ — и является «заветом», заповеданным этой новой действительностью художнику. Это и есть «гибель всерьез», которую искусство требует от актера, — гибель его прежнего «я» для новой драмы, действия которой не справляются о его внутреннем самочувствии, но требуют полного в них погружения.
Знаком принятия «завета» лирическим субъектом Пастернака служит слово «упряжь». Оно перекликается с ключевым термином политического языка Московской Руси «тягло», обозначавшим всеобщую «повинность» государству всех его субъектов, независимо от ранга и рода занятий. Современная Москва, с ее дымом заводов и стройками, предстает как новая инкарнация тотальной упряжи, которую все ее субъекты «тянут» общими усилиями. Любопытное продолжение этот образ имел в первоначальном варианте окончания предпоследней строфы: «Как ты ползешь и как дымишься, И как кончаешься, Москва», — замененном, возможно, в предвидении цензурных затруднений. Образ Москвы, «кончающейся» в упряжи, безошибочно отсылал к «Коняге» Салтыкова-Щедрина:
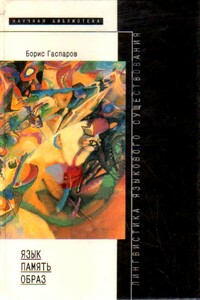
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
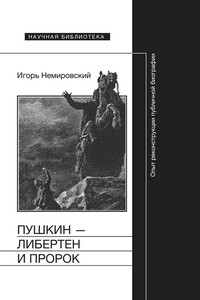
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.