Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [93]
Весенняя гроза как бурный и внезапный сигнал поворота, совершающегося в природе, — популярнейшая поэтическая тема. Казалось бы, ее символический сюжет занимает прочное, мгновенно узнаваемое место в пантеоне апробированных поэтических образов. Однако Пастернак находит для этого сюжета неожиданный поворот, разом сдвигающий его в совершенно иное и притом сугубо «непоэтическое» смысловое пространство: весенняя гроза сулит появление в недалеком будущем свежей зелени и овощей, призванных внести скромное улучшение в однообразие и скудость зимнего стола. Это комическая и вместе с тем патетичная проекция экзистенциального круговращения бытия с точки зрения слишком долго «терпевшего» желудка (картина, на заднем плане которой проглядывает актуальная социальная действительность — внезапное оскудение быта после начала коллективизации) являет собой поразительное свидетельство верности поэта метафизике повседневности. Действительность по-прежнему предстает в виде свободно плавающих частиц-признаков; но на всем лежит печать опрощения, и сам этот новый модус переживания бытия служит знаком, которым изменившаяся действительность заявляет о своем всепроникающем присутствии. Расхожая метафора мокрого асфальта, «маслянисто поблескивающего на солнце», как бы сбрасывает свою патентованную литературность, оборачиваясь буквальным смыслом: ностальгическим мечтанием о свежем салате, щедро политом подсолнечным маслом, возможное обретение которого в недалеком будущем сулит яркое солнце. Пробивающиеся почки на деревьях наводят на мысль о водке, настоенной на травах, и о молодом укропе, накрошенном в суп. У раннего Пастернака тополь был «удивлен» зрелищем собственных пробивающихся почек («Весна. Я с улицы, где тополь удивлен»); теперь, вросши в новую действительность, тополь деловито подставляет почки струям дождя; настоенные на почках, они стекают «зубровкой», аромат которой скрашивает все еще рано наступающие сумерки.
Но почему бокалы оказываются вокабулами, а ливень изъясняется оглушительной латынью? Казалось бы, для латыни в этой действительности едва ли есть место. Ее присутствие, однако, мотивируется вторичной действительностью поэтической памяти. В сознании субъекта стихотворения зрелище весенней грозы неотделимо от канонического стихотворения Тютчева. Встраивающийся в картину за окном ее поэтический прототип привносит и классические ассоциации, и идею пира богов (в соположении с предвкушаемым более чем скромным пиршеством, на мысли о котором субъекта подвигло зрелище майской грозы):
Появление Тютчева в образной ткани стихотворения трудно назвать «интертекстом» либо намеренной пародией; скорее, классический источник выглядит употребленным «невпопад», подобно пушкинскому «снег да снег». Дело не только в смазанном, как будто полустертом представлении о классическом мире, при котором гомеровские образы Тютчева предстают неопределенной «латынью»; главное — это латынь самой низкой пробы, бесконечно удаленная от праздничной торжественности классической мифологии: латынь семинарской зубрежки, с архетипической фигурой «тупицы», застигнутого врасплох сыплющимся градом «вокабул» и получающего оглушительный подзатыльник. (Как мы видели, и сам лирический субъект стихотворения не вполне уверенно освоил «вокабулы» нового экзистенциального порядка.)
Ассоциация оглушительного раската грома с хлопаньем откупориваемого шампанского заложена уже у Тютчева в «гомеровском» эпитете ‘громокипящий’. У Пастернака прозрачность интертекстуальной аллюзии сочетается с резким сдвигом в иную модальность: подобно тому как удар грома, от которого закладывает уши, превращается в «подзатыльник», откупоривание старого вина (ценность которого аттестуется «заплесневелой» бутылкой) — в открывание оконной рамы, заклеенной на зиму и сейчас обнажающей из-под слоя заскорузлой бумаги свой заплесневелый остов. (Для заклеивания окон на зиму употреблялся, за неимением клея, «клейстер» домашнего изготовления, т. е. клейкое вещество неровной консистенции, получающееся из разведенной водой муки; им густо мазали рамы, накладывая сверху слои нарезанной газетной бумаги. Отдирание этого коллажа, после того как он простоял полгода, являло собой эстетически малопривлекательное зрелище.)
Доносящийся с улицы «гам», после того как откупорили заплесневелую бутылку окна, также восходит к Тютчеву, но еще более — к образу растворенного окна у Майкова, к которому в свое время отсылали «Про эти стихи»:
На этот раз доносящийся с улицы «гам» имеет иную консистенцию, вполне соответствующую действительности конца 20-х — начала 30-х годов. В «говоре народа» явственно слышится популярная эвфемистическая формула, которой обменивались, передавая из уст в уста слух об очередном имярек, засланном «куда Макар телят не гонял»; в данном случае этим внезапно исчезнувшим субъектом оказывается ливень. (Некоторая старомодность формулы, подчеркнутая явно устарелым «не ганивал», в сочетании с грубо современным «заслан», вновь демонстрирует характерную разношерстность и самого существования, и его отображения в языке.)
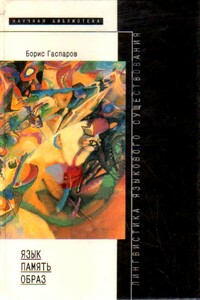
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
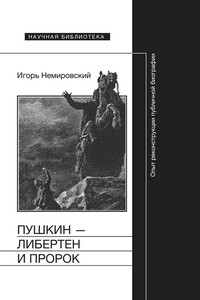
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.