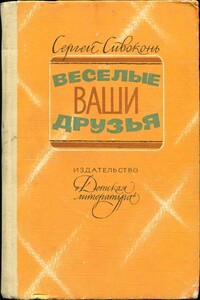Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [27]
Пожалуй, самым поразительным, хотя и чисто анекдотическим, примером этого стремления, так сказать, спрятаться за чужой спиной может служить реакция Пастернака на поздравление его родителями с днем рождения; в ответном письме (12.2.37) Пастернак замечает, что свой день рождения «29-е [по старому стилю] я всегда помню, потому что это день смерти Пушкина» (Е. Б. Пастернак 1989: 531).
Возвращаясь к идее художественной формы, в «невольничество» которой добровольно отдает себя художник, следует прежде всего вспомнить о ритмической фактуре его стихотворений. Приверженность Пастернака к сугубо традиционным формам поэтической просодии, особенно поразительная в сочетании с головокружительной скоростью и свободой движения образов, находит объяснение в осознании им узнаваемых ритмо-интонационных фигур как художественной среды, в которую он добровольно погружается. Ритмы Пастернака, за редкими исключениями, узнаваемы до банальности, просты и напевны. В этом чутком улавливании конвенциональной «мелодики» прямым предшественником Пастернака (и, видимо, сознательным для него прототипом) был Блок.
Пастернак настойчиво подчеркивал, что писать стихи «гораздо легче», чем прозу[106]. Смысл этих, кажущихся анти-интуитивными, заявлений легко понять, если принять во внимание, что в традиционной версификации (почти без исключений практикуемой Пастернаком) феномен формальной апперцепции, подчиняющей себе автора, выражен с наибольшей отчетливостью и прямотой.
В прозе сходный феномен выражен не так явно и безоговорочно. Здесь его представляют конвенциональные черты жанра, стиля, построения сюжета. В «Докторе Живаго» стремление Пастернака-прозаика стать «невольником» узнаваемых жанров, повествовательных форм и стилевых традиций проявляет себя во внезапных прорывах его рассказа в мелодраму, элементы бульварной литературы, штампы псевдо-народного стиля, — все это в непринужденном соседстве с высоко поэтичными картинами (в свою очередь узнаваемыми в качестве «прозы поэта») и произвольно выпадающими из действия философскими экскурсами-монологами. Что объединяет эту пеструю толпу «подобий» — это их вторичность, лишающая автора собственной воли, буквально забирающая текст из его рук. Пастернак как будто хватается подряд за любую, первую попавшуюся черту жанрового и стилевого оформления, каждый раз немедленно и безоговорочно (отнюдь не в виде иронической игры) ей подчиняясь.
Художественный субъект Пастернака незащищен, и в этом конгениален той, во имя искупления которой он выбирает это положение. Подобно плененной действительности, он открыт любому «созерцанию»; он может показаться банальным, погрешающим против вкуса, мелодраматичным, провинциально традиционным, либо, напротив, злоупотребляющим авангардными темнотами. Его шаг в то, что больше его самого, — это шаг на подмостки, отдающий его во власть роли в не им написанной драме.
Нам остается только выяснить, почему герой автобиографии заявляет, что невольником форм он стал «раньше, чем надо». Мы видели, что для того, чтобы прочувствовать с исчерпывающей полнотой всю бескомпромиссную непреложность метафизического принципа, согласно которому явление вещи в качестве феномена означает ее падшее состояние, Пастернаку необходимо было пройти путь строгого философского учения. Но дело в том, что интуитивное понимание этой метафизической драмы пришло к герою «Охранной грамоты» уже в отрочестве, без помощи эпистемологического искуса. Пастернак с таким рвением вживается в мир философской критики, чтобы в конце концов прийти к ее преодолению в «невольничестве» искусства, именно потому, что этот итог им предчувствовался — пусть чисто эмоционально — с самого начала. Однако признаться в этом, даже самому себе, — значит лишить этот путь спонтанности, превратить его в маршрут собственного разума и воли, тем самым его обесценив. Об этом Пастернак однажды «проговорился» в письме к Штиху из Марбурга: «А я приехал учиться сюда… Здесь я делаю вид, что не понимаю языка обольстителя [т. е. искусства]» (письмо 11.5.12; СС 5: 27).
Это не значит, что марбургский опыт Пастернака был симуляцией с предрешенным исходом. Скорее, он был «самообманом» в том смысле, который только и делал искусство для Пастернака возможным. Его не устраивало ощущение, вошедшее в его внутренний мир «слишком рано» и в этом качестве бывшее скорее интуитивным порывом, чем пониманием в собственном смысле. Чтобы прийти к такому пониманию, необходимо было «делать вид», что он не знает, куда стремится и к чему придет. Более всего Пастернак избегает того, чтобы дать повод кому бы то ни было — и прежде всего самому себе — заподозрить, что в безумии его способности «заблудиться в двух шагах от дома» есть метод, а во всегдашней готовности с восторгом отдаться воле волн — некоторая цель.
2. Вассерманова реакция
Заглавие первой литературно-критической статьи Пастернака способно вызвать некоторое замешательство, если задуматься о его подразумеваемом смысле. Вассерманова реакция — открытый в начале века тест на воспаление в крови, позволяющий диагностировать венерическое заболевание. Сама статья прямых отсылок к заявленной заголовком теме не содержит, так что остается гадать, какое отношение этот рискованный образ имеет к ее содержанию. Как и другие литературно-критические опыты Пастернака середины 1910-х годов, статья изобилует полемическими эксцессами, ни для его мышления, ни для стиля совершенно не характерными, но вписывающимися в крикливую полемичность тона, принятого «Центрифугой» под руководством Боброва. Философская направленность, характерная для критических статей Мандельштама или символистов, в статье Пастернака открыто не просматривается. Перед нами еще одно свидетельство свойства Пастернака мимикрировать
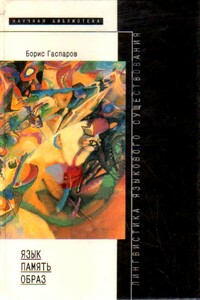
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.
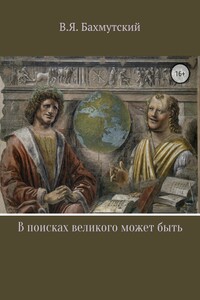
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.