Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [24]
(ДЖ 17: 14)
Примечательно, что в одном ряду со словами о женщине оказывается образ «вольного упорства» полета, отсылающий, как мы ранее выяснили, к метафоре полета голубя у Канта. Рыцарственное сражение за честь женщины и борьба с упорством «воздушной» мыслительной среды в творческом полете-погоне за действительностью («образом мира») нераздельны в миссии героя, с которой он расстается лишь в смерти.
В свете этого метафизического сюжета представляется интересным взглянуть еще раз на обстоятельства, при которых Пастернак решил оставить философское поприще. Биографы поэта отмечают различные чисто житейские причины, если не определившие это решение целиком, то во всяком случае ему способствовавшие. Далеко не последнюю роль в нем сыграла реакция резкого неодобрения, даже отвержения того «нового Пастернака», каким он явился после двухлетних напряженных занятий отвлеченной наукой, со стороны всех тех, кто для него олицетворял женственное начало: Иды Высоцкой, Ольги Фрейденберг и, наконец, Жозефины Пастернак.
В письмах этого времени Пастернак настойчиво подчеркивает значение этого мотива (о писании стихов как о причине оставления философии, педалированном впоследствии в автобиографии, здесь ни слова). Жозефине он заявляет, что бросает свои «долгие, успешные и даже любимые занятия, в которые он верит», только оттого, что они «отдаляют его от тех, кого он любит» (12/16.7.12; СС 5: 63). (Любопытна, однако, эта оговорка: «даже любимые».) Штиху делает драматическое признание: «Я ставлю крест на философии. Единственная причина, но какая причина! От меня, явно или тайно, отвернулись все любимые мною люди» (17.7.12; ibid., 64).
Смысл этих признаний, как и их мелодраматическая преувеличенность под влиянием момента, кажется очевидным. Их более глубокое значение, однако, раскрывается в письме к менее близкому человеку (давно замечено, что многие проникновенные признания о своей духовной жизни и творческом процессе Пастернак делал в обращении к посторонним, иногда случайным адресатам): «Я гнушаюсь тем трудом — которого не знает, не замечает, в котором не нуждается женственность» (письмо к Смолицкому 3.7.12: Е. Б. Пастернак 1989: 162).
История юношеских привязанностей, разочарований, обид, сама по себе вполне типическая, перерастает здесь в метафизическую проблему. То, что дорогие Пастернаку женщины в один голос нашли его «чужим» после двухлетних занятий философией, становится приговором философии как пути к свободной действительности, олицетворением которой и является «женственность». Не следует, конечно, придавать этой символической причине слишком буквальное значение. Когда Пастернак всерьез посвятил себя поэзии, это тоже встретило неодобрение со стороны близких, видевших в ней очередной путь в никуда; на решимость Пастернака это, однако, ни в малейшей степени не повлияло. Неприятие со стороны «женственности» явилось не реальной причиной ухода из философии, но символом, позволившим оформиться внутреннему смыслу решения.
Антиповым, этим «антиподом» главного героя, движет та же боль за Лару и жажда искупления («Мы в книге рока на одной строке», скажет о нем Живаго словами Шекспира). Но Антипова это чувство отдает во власть «идеи», со всей абсолютностью ее императивов. В словах Лары о том, что постигло Антипова на этом пути, звучит отголосок суждений, которые Пастернак услышал от носительниц «женственности» по поводу своего погружения в марбургский мир:
Точно что-то отвлеченное вошло в этот облик и обесцветило его. <…> Я поняла, что это следствие тех сил, в руки которых он себя отдал, сил возвышенных, но мертвящих и безжалостных. (ДЖ 13: 13)
«Мертвящий» характер разумного познания в «Охранной грамоте» воплощен в рассказе о работе Пастернака над неким сочинением, призванным подвести итог его марбургским занятиям. Каждая возникающая у автора идея вызывает потребность в выписке-цитате, относящей новую мысль к тому или иному источнику (иными словами, оформляющей ее путем апперцепции): «я тянулся к ним не из бескорыстного интереса к знанью, а за литературными ссылками в его пользу». Сочинение превращается в саморазрастающуюся последовательность апперцепционных шагов. Гротескная нелепость этого процесса подчеркнута его физической буквальностью; чтобы сэкономить время, автор просто прикладывает книгу, раскрытую на нужной ему цитате, к соответствующему месту в своем рассуждении:
[Н]аступил момент, когда тема моей работы матерьялизовалась и стала обозрима простым глазом с порога комнаты. Она вытянулась поперек помещенья подобьем древовидного папоротника, налегая своими лиственными разворотами на стол, диван и подоконник. (ОГ II: 5)
Процесс герметического разрастания мысли из самой себя метко назван «растительным»[99]. Его способность заслонить собой всякую заботу о действительном «знании» воплощена в картине замысловатых зарослей из выписок, сплошь покрывающих, точно доисторические папоротники, все жилое пространство. Апперцепция существует в себе и для себя, заняв собою место вытесненного ею предмета (а в буквальном воплощении — все «место», на котором протекает жизнь самого субъекта). Соответственно, уничтожение этого артефакта, служащее эмблематическим знаком отпадения героя от философии («когда дорогой я видел в воображеньи мою комнату, я, собственно говоря, видел во плоти свою философию и ее вероятную судьбу»; ОГ II: 5), отмечено той же саркастически сниженной буквальностью, что и процесс его самопорождения. Ничто в мире не было потеряно в результате уборки комнаты, как ничто не было приобретено в процессе покрывания ее зарослями «папоротников»:
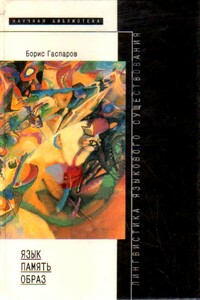
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.

В основе книги - сборник воспоминаний о Исааке Бабеле. Живые свидетельства современников (Лев Славин, Константин Паустовский, Лев Никулин, Леонид Утесов и многие другие) позволяют полнее представить личность замечательного советского писателя, почувствовать его человеческое своеобразие, сложность и яркость его художественного мира. Предисловие Фазиля Искандера.
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В. С. Гроссман – один из наиболее известных русских писателей XX века. В довоенные и послевоенные годы он оказался в эпицентре литературных и политических интриг, чудом избежав ареста. В 1961 году рукописи романа «Жизнь и судьба» конфискованы КГБ по распоряжению ЦК КПСС. Четверть века спустя, когда все же вышедшая за границей книга была переведена на европейские языки, пришла мировая слава. Однако интриги в связи с наследием писателя продолжились. Теперь не только советские. Авторы реконструируют биографию писателя, попутно устраняя уже сложившиеся «мифы».При подготовке издания использованы документы Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Федеральной службы безопасности.Книга предназначена историкам, филологам, политологам, журналистам, а также всем интересующимся отечественной историей и литературой XX века.

Книга посвящена анализу поэтики Достоевского в свете разорванности мироощущения писателя между европейским и русским (византийским) способами культурного мышления. Анализируя три произведения великого писателя: «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья» и «Преступление и наказание», автор показывает, как Достоевский преодолевает эту разорванность, основывая свой художественный метод на высшей форме иронии – парадоксе. Одновременно, в более широком плане, автор обращает внимание на то, как Достоевский художественно осмысливает конфликт между рациональным («научным», «философским») и художественным («литературным») способами мышления и как отдает в контексте российского культурного универса безусловное предпочтение последнему.

Анну Керн все знают как женщину, вдохновившую «солнце русской поэзии» А. С. Пушкина на один из его шедевров. Она была красавицей своей эпохи, вскружившей голову не одному только Пушкину.До наших дней дошло лишь несколько ее портретов, по которым нам весьма трудно судить о ее красоте. Какой была Анна Керн и как прожила свою жизнь, что в ней было особенного, кроме встречи с Пушкиным, читатель узнает из этой книги. Издание дополнено большим количеством иллюстраций и цитат из воспоминаний самой Керн и ее современников.

Издательство «Фолио», осуществляя выпуск «Малороссийской прозы» Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), одновременно публикует книгу Л. Г. Фризмана «Остроумный Основьяненко», в которой рассматривается жизненный путь и творчество замечательного украинского писателя, драматурга, историка Украины, Харькова с позиций сегодняшнего дня. Это тем более ценно, что последняя монография о Квитке, принадлежащая перу С. Д. Зубкова, появилась более 35 лет назад. Преследуя цель воскресить внимание к наследию основоположника украинской прозы, собирая материал к книге о нем, ученый-литературовед и писатель Леонид Фризман обнаружил в фонде Института литературы им.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.