Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [22]
Пастернак затрачивает огромные усилия — всецело посвятив им несколько лет жизни, — на то, чтобы выяснить для себя с полной отчетливостью феномен чистой мысли, его возможности, прерогативы и ограничения. Ему необходимо было прочувствовать с максимальной силой безальтернативность универсального закона познания, дойти на этом пути «до самой сути»[91], ощутить себя побежденным его непреложностью, чтобы построить и образно реализовать понимание искусства как уклончивой попытки обойти не-обходимое.
Весомость уклонения, в случае Пастернака, определяется именно полнотой осознания всей подавляющей нерушимости того, от чего уклоняются. Его культ «случайного», хаотичность образов (а позднее в прозе — произвольность событийных наслоений), смысловые и стилистические срывы, в раннем творчестве замаскированные чрезвычайной плотностью поэтического языка, но к концу творческого пути, вместе с обретенной «простотой», выступившие на поверхность иногда со смущающей откровенностью, не были актом художественной «критики рационализма» — позиции, которая в контексте Серебряного века не требовала больших мыслительных усилий. Напротив, органической чертой художественного мира Пастернака является осознание того, какую картину должно «стихописание» являть собой в глазах разума. Он как бы строит свою творческую личность в самоощущении ученика, пытающегося объяснить проницательному учителю свою шаткость в следовании философскому поприщу заведомо негодным предлогом — писанием «Verse».
Глава 2. О свойствах страсти
1. Форма невольниц
«Охранная грамота» начинается (после своего рода титульной виньетки — описания встречи-невстречи с Рильке) лихорадочно торопливым перечислением предметов, о которых повествователь «не будет» рассказывать. Перед нами типичный пастернаковский ход, по логике которого то, мимо чего спешат «метонимически» проскочить, позволяя лишь кинуть мимолетный взгляд, имеет шанс оказаться важнейшей лейтмотивной пружиной рассказа. В ряду предметов этой своеобразной отрицательной экспозиции фигурирует пассаж, торопливая лапидарность которого оставляет смысл во многом непроясненным:
…Как весной девятьсот первого года в Зоологическом саду показывали отряд дагомейских амазонок. Как первое ощущенье женщины связалось у меня с ощущеньем обнаженного строя, сомкнутого страданья, тропического парада под барабан. Как раньше, чем надо, стал я невольником форм, потому что слишком рано увидал на них форму невольниц (ОГ I: 2).
Парад дагомейских амазонок был популярным аттракционом, кочевавшим по городам Европы. Когда Чайковский приехал в Париж с концертами в 1889 году, амазонки были там последней новинкой; это дало повод Модесту Чайковскому саркастически заметить в ответ на упреки критиков, нашедших музыку его брата недостаточно «славянской», что они, по-видимому, ожидали от русского композитора нечто подобное дагомейской экзотике[92]. Упоминание амазонок могло бы восприниматься как примета «шума времени», — если бы Пастернак стремился к воссозданию такового. Не потребовало бы комментариев и чувство по поводу унижения женщины, проходящее лейт-темой через всю жизнь и творчество Пастернака[93]. Но в каком смысле это детское впечатление дало повествователю повод заявить о себе как о «невольнике форм», и что вообще означает это определение? Как и во многих других случаях, понять смысл сказанного помогает заключенный в нем философский подтекст.
В комментариях Когена к Канту — и соответственно, в конспектах Пастернака — значительное место занимает вопрос о том, каким образом познающей мысли, с ее строгим категориальным единством, удается «присоединить» (affizieren) множество предметов, без того чтобы раствориться в их разнообразии. Ответ Коген находит в учении Канта о форме в «Критике чистого разума», согласно которому каждый акт познания состоит в соотнесении текущего впечатления с той или иной формой, выработанной на основании предшествующего опыта. Восприятие предметного мира осуществляется не непосредственно от «вещи» к «мысли», но путем апперцепции, то есть отнесения данного впечатления к уже познанному, и тем самым оформленному[94]. Комментарий Когена, как обычно, педалирует абстрактное и универсальное начало в мысли «старика»: согласно его толкованию, речь вдет не просто об отнесении одного явления к другим, уже освоенным мыслью, но о создании самого этого явления в качестве «воплощения» мыслительной формы, к которой оно присоединяется посредством апперцепции[95].
В характерной для Пастернака манере, об этом важнейшем пункте философской позиции Когена в рассказе о нем сообщается мимоходом, в виде типического «студенческого анекдота» о свирепом профессоре:
‘Was ist Apperzepzion?’ — спрашивает он у экзаменующегося неспециалиста, и на его перевод с латинского, что это означает… durchfassen (прощупать), — ‘Nein, das heißt durchfallen, mein Herr!’ (Нет, это значит провалиться), — раздается в ответ. (ОГ II: 8)
Гнев профессора вызвала идея о том, что апперцепция может означать эмпирическое «прощупывание» вещи. Однако ответ незадачливого студента «случайно» попадает в самую суть дела, обнажив темную сторону триумфа мысли над действительностью, являемого в апперцепции. Вульгарно-чувственная, почти неприличная ассоциация «прирастает» к философскому понятию, окрашивая критический анализ Пастернака в тона страстного сочувствия и морального протеста.
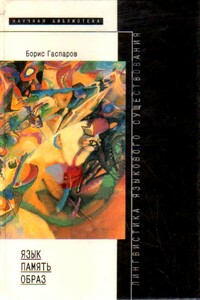
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В. С. Гроссман – один из наиболее известных русских писателей XX века. В довоенные и послевоенные годы он оказался в эпицентре литературных и политических интриг, чудом избежав ареста. В 1961 году рукописи романа «Жизнь и судьба» конфискованы КГБ по распоряжению ЦК КПСС. Четверть века спустя, когда все же вышедшая за границей книга была переведена на европейские языки, пришла мировая слава. Однако интриги в связи с наследием писателя продолжились. Теперь не только советские. Авторы реконструируют биографию писателя, попутно устраняя уже сложившиеся «мифы».При подготовке издания использованы документы Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Федеральной службы безопасности.Книга предназначена историкам, филологам, политологам, журналистам, а также всем интересующимся отечественной историей и литературой XX века.

Книга посвящена анализу поэтики Достоевского в свете разорванности мироощущения писателя между европейским и русским (византийским) способами культурного мышления. Анализируя три произведения великого писателя: «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья» и «Преступление и наказание», автор показывает, как Достоевский преодолевает эту разорванность, основывая свой художественный метод на высшей форме иронии – парадоксе. Одновременно, в более широком плане, автор обращает внимание на то, как Достоевский художественно осмысливает конфликт между рациональным («научным», «философским») и художественным («литературным») способами мышления и как отдает в контексте российского культурного универса безусловное предпочтение последнему.

Анну Керн все знают как женщину, вдохновившую «солнце русской поэзии» А. С. Пушкина на один из его шедевров. Она была красавицей своей эпохи, вскружившей голову не одному только Пушкину.До наших дней дошло лишь несколько ее портретов, по которым нам весьма трудно судить о ее красоте. Какой была Анна Керн и как прожила свою жизнь, что в ней было особенного, кроме встречи с Пушкиным, читатель узнает из этой книги. Издание дополнено большим количеством иллюстраций и цитат из воспоминаний самой Керн и ее современников.

Издательство «Фолио», осуществляя выпуск «Малороссийской прозы» Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), одновременно публикует книгу Л. Г. Фризмана «Остроумный Основьяненко», в которой рассматривается жизненный путь и творчество замечательного украинского писателя, драматурга, историка Украины, Харькова с позиций сегодняшнего дня. Это тем более ценно, что последняя монография о Квитке, принадлежащая перу С. Д. Зубкова, появилась более 35 лет назад. Преследуя цель воскресить внимание к наследию основоположника украинской прозы, собирая материал к книге о нем, ученый-литературовед и писатель Леонид Фризман обнаружил в фонде Института литературы им.

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.