Борис Пастернак: По ту сторону поэтики - [20]
Для Пастернака всё это предметы, сами собою разумеющиеся, о которых он говорит (как часто о наиболее важных для себя вещах) скорее мимоходом. Тут, как кажется, вступает в действие семиотический закон, прекрасно сформулированный Лотманом: о самом близком, повседневно привычном и очевидном, не говорят; семиотическим «событием» является то, что не разумеется само собою, и значит, нуждается в осмысливании и высказывании. Об интенсивности внутреннего диалога Пастернака с философией раннего романтизма можно судить только тогда, когда он проводит разделяющую их черту.
Такой чертой было неприятие Пастернаком того ощущения духовного триумфа, которым буквально дышат страницы «Атенеума». Самосознание йенских романтиков, в отличие от неоромантизма символистов, не было утопическим; они принимали конечную невозможность прорыва к трансцендентному как неотъемлемое условие земного человеческого существования. И тем не менее, идея «романтической поэзии» переживалась ими как победа, позволяющая вырваться — пусть лишь в «бесконечном приближении» (unendliche Annäherung[83]) — из зачарованного круга, очерченного разумом. Сама бесконечность движения к недостижимому идеалу становилась живым переживанием бесконечного[84].
Свое отношение к триумфализму романтической критики Пастернак очень точно сформулировал в письме к Ренате Швайцер: «Романтизм меня не удовлетворяет как нечто официальное <…> как искусство в вицмундире гениальности»[85]. В концепции «романтической поэзии» творческий «гений» кантовской Третьей критики получал, так сказать, институциональное воплощение в качестве антитезиса чистому разуму. Это и есть тот «вицмундир», который Пастернака не устраивает у йенских романтиков.
В свое время, в один из редких моментов выплеснувшегося на поверхность раздражения, Пастернак дал резкую оценку марбургскому интеллектуальному самодовольству — этой оборотной стороне марбургского герметизма: «Ах, они не существуют; они не спрягаются в страдательном. Они не падают в творчестве. Это скоты интеллектуализма»[86]. Примечательна в этом нехарактерно резком суждении[87] концентрация кардинально важных для Пастернака мотивов. Герметическому мышлению недоступно заблуждение; оно не может испытать «падение» — понятие, которое, как мы видели, у Пастернака наделяется целым пучком значений: это и поражение в схватке с высшей силой, и буквальное падение, приобщающее к осознанию непреложности силы тяжести ценой полученного увечья, и наконец, моральное «падение» сбившегося с пути. Своей самодовольной самодостаточностью рационализм сам себя исключает из действительности, обрекая на «несуществование». Ему чужда «страдательность», понимаемая и как пассивное подчинение субъекта миру существующего (спряжение себя в «страдательном залоге»), и как страдание, моральное и физическое, которым оплачивается это уклонение с «правильного» пути.
Замечательно зеркальное соответствие этого отзыва приведенной выше оценке философского самосознания романтизма. В представлении Пастернака, романтическая критика чистого разума пронизана такой же самодовольной уверенностью в своей правоте, как герметический рационализм ее оппонентов; романтическому гению в вицмундире так же чужда боль «падения», как «скотам интеллектуализма».
Чувство полной защищенности в замкнутом пространстве, в котором все ощущение мира может быть компактно собрано «в наглядную, мгновенно обозримую горсть», способность безоговорочно его принимать и отождествляться с ним, — это, по Пастернаку, состояние духовного «детства».
В возрастах отлично разбиралась Греция. Она остерегалась их смешивать. Она умела мыслить детство замкнуто и самостоятельно, как заглавное интеграционное ядро. <…> Вот отчего при гениальном, всегда неожиданном, сказочно захватывающем искусстве античность не знала романтизма. (ОГ I: 4)
Одной из возможных герметических оболочек, в которых сознание может успокоительно поместиться без остатка, является язык. Здесь мы вновь наблюдаем демистификацию языка у Пастернака, — проявляющую себя не столько в «критике» языка, сколько в трезвом к нему отношении, как к одному из компонентов действительности, такому же бесконечно ускользающему, как и все другие ее компоненты.
Характерен в этом плане знаменитый эпизод в начале «Детства Люверс», когда героиня, напуганная непонятым впечатлением, принимает имя («Это — Мотовилиха») как исчерпывающее объяснение самого феномена:
Объяснение отца было коротко. Это — Мотовилиха. Стыдно. Такая большая девочка. Спи. Девочка ничего не поняла и удовлетворенно сглотнула катившуюся слезу. Только это, ведь, и требовалось: узнать, как зовут непонятное: — Мотовилиха. — В эту ночь это объясняло еще все, потому что в эту ночь имя имело еще полное, по-детски успокоительное значение.
Но наутро она стала задавать вопросы о том, что такое — Мотовилиха и что там делали ночью, и узнала, что Мотовилиха — завод, казенный завод, и что делают там чугун, а из чугуна…, не это ее не занимало уже, а интересовало ее, не страны ли особые то, что называют «заводы», и кто там живет; но этих вопросов она не задала и их почему-то умышленно скрыла.
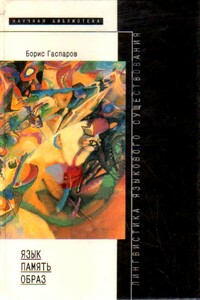
В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний.
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В. С. Гроссман – один из наиболее известных русских писателей XX века. В довоенные и послевоенные годы он оказался в эпицентре литературных и политических интриг, чудом избежав ареста. В 1961 году рукописи романа «Жизнь и судьба» конфискованы КГБ по распоряжению ЦК КПСС. Четверть века спустя, когда все же вышедшая за границей книга была переведена на европейские языки, пришла мировая слава. Однако интриги в связи с наследием писателя продолжились. Теперь не только советские. Авторы реконструируют биографию писателя, попутно устраняя уже сложившиеся «мифы».При подготовке издания использованы документы Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Федеральной службы безопасности.Книга предназначена историкам, филологам, политологам, журналистам, а также всем интересующимся отечественной историей и литературой XX века.

Книга посвящена анализу поэтики Достоевского в свете разорванности мироощущения писателя между европейским и русским (византийским) способами культурного мышления. Анализируя три произведения великого писателя: «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья» и «Преступление и наказание», автор показывает, как Достоевский преодолевает эту разорванность, основывая свой художественный метод на высшей форме иронии – парадоксе. Одновременно, в более широком плане, автор обращает внимание на то, как Достоевский художественно осмысливает конфликт между рациональным («научным», «философским») и художественным («литературным») способами мышления и как отдает в контексте российского культурного универса безусловное предпочтение последнему.

Анну Керн все знают как женщину, вдохновившую «солнце русской поэзии» А. С. Пушкина на один из его шедевров. Она была красавицей своей эпохи, вскружившей голову не одному только Пушкину.До наших дней дошло лишь несколько ее портретов, по которым нам весьма трудно судить о ее красоте. Какой была Анна Керн и как прожила свою жизнь, что в ней было особенного, кроме встречи с Пушкиным, читатель узнает из этой книги. Издание дополнено большим количеством иллюстраций и цитат из воспоминаний самой Керн и ее современников.

Издательство «Фолио», осуществляя выпуск «Малороссийской прозы» Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), одновременно публикует книгу Л. Г. Фризмана «Остроумный Основьяненко», в которой рассматривается жизненный путь и творчество замечательного украинского писателя, драматурга, историка Украины, Харькова с позиций сегодняшнего дня. Это тем более ценно, что последняя монография о Квитке, принадлежащая перу С. Д. Зубкова, появилась более 35 лет назад. Преследуя цель воскресить внимание к наследию основоположника украинской прозы, собирая материал к книге о нем, ученый-литературовед и писатель Леонид Фризман обнаружил в фонде Института литературы им.

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.