Большое солнце Одессы - [13]
— В чем дело? — удивился тот. — Что за манера дергать незнакомых людей?
— Пардон, — сказал папа, — я не учился в пансионе благородных девиц.
— Понятно, — заулыбался другой, — а в хедере ему, конечно, не объясняли, как ведут себя порядочные люди. За версту пахнет аристократом с Красной Слободки.
Когда папа схватил его за горло, тот захрипел, и я думал, он сейчас умрет.
— Папа, — закричал я, — не надо: он умрет.
А папа, задыхаясь, повторял:
— Надо! Надо! Надо!
Другой, который был рядом, схватил папу за руки и уговаривал:
— Товарищ, товарищ, друг, ну, успокойся!
Наконец, папа отпустил того. Сплюнув на снег, — слюна была красная, — тот поднял свою ушанку с гречкой, напялил на голову, перемотал шарф и пошел, бормоча:
— Псих! Малахольный! Ну, ничего… ничего…
Папа вытер рукавом губы, расстегнул пальто и вынул часы из карманчика под поясом брюк.
— Давай, — сказал папа.
Человек с биржи удивился:
— Что давай? Ты мне ничего не должен — я тебе ничего не должен.
— Я согласен, — объяснил папа, — за пять.
— Он согласен! А зачем мне твой трактор? Зачем?
— Подожди, ты можешь подождать секунду! — остановил его папа. — Ты же сам давал мне пять. Давал или не давал?
— При чем тут давал или не давал? Мне не нужен твой трактор. Я знаю, он совсем свежий, только что с конвейера — я читал об этом сегодня в библии. Но он мне не нужен.
— Но ты же сам давал. Сам… — тихо повторял папа.
— Опять двадцать пять! Ты что, измором хочешь меня взять?
Папа с трудом уговорил его: он согласился взять лонжин за четыре и все время доказывал, что еще одна такая коммерция — он останется без штанов.
— Чтоб я так был здоров, — клялся он, отсчитывая бумажки, на которых человек в парике, — только ради него: у меня тоже пацан дома, в первый класс ходит.
Вечером мама испекла оладьи. Она все время заставляла меня ждать, пока оладьи не остынут, потому что от горячего теста бывают колики в животе и даже умереть можно.
Папа сказал, что если бы к этим оладьям еще повидла, тогда…
— Когда человеку хорошо, — перебила его мама, — грех желать, чтобы еще лучше было.
— Тынды-рынды, — возмутился папа, — значит, живи как живется?
А мама продолжала свое:
— Хорошему нет предела — пусть не будет хуже.
Папа махнул рукой: такие разговоры, объяснял он уже сто раз, можно вести до второго пришествия.
Я спросил, что это — второе пришествие, и папа сказал, что первое пришествие было две тысячи лет назад, когда бог Иисус Христос, которого на самом деле не было, пришел на землю. Потом папа начал говорить про религию: кто и зачем ее выдумал, кому нужен бог и кому он не нужен. Но мне трудно было слушать, как раньше, потому что Семка Кроник, который живет за стеной, уже пришел со второй смены из школы и орал, как подстреленный, песню про малахольного:
Товарищ малахольный, Скажи ты моей маме, Что сын ее погибнул на посте.
Раз, две!
С винтовкою в рукою И с саблею в другою, И с песнею веселой на усте.
Раз, две!
Потом он стал распевать дурацкую песню про ур-каганку Мурку: здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, дорогая, и прощай!
У нас во дворе живет одна Мурка — пять дней назад она выпила бутылку йода, за ней приехала скорая помощь и отвезла ее в родильный дом. А через два дня она вернулась домой. Говорят, еще немного — и у нее сгорели бы от йода все внутренности.
Я спрашивал, зачем она пила йод, если от него могут сгореть все внутренности. Мне отвечали, что это не мое дело, и вообще дети не должны повторять каждое слово за взрослыми.
Мама села строчить свои рукавицы, папа вынул из пиджака свежую "Правду” и сказал, что скоро можно будет не выписывать "Чорноморську комуну”, потому что "Правда” теперь приходит на четвертый день, иногда даже на третий, а наша местная — на второй, так что разница в один день.
На Урале — Урал почти Сибирь, четыре тысячи километров от Одессы, — две магнитогорские домны, которые только недавно задули, начали давать по две тысячи тонн чугуна в день. А в Кузнецке, до которого с Урала надо ехать поездом еще трое суток, сдали досрочно две мартеновские печи и первый советский блюминг. На стройке люди работали круглые сутки. Ночью площадку освещали прожектора, ночные смены не хотели снижать выработки. Когда вдруг появлялись плывуны, комсомольцы продолжали рыть землю, стоя по пояс в ледяной воде.
— Шутка ли сказать, — вздыхала мама, — в ледяной воде до самого пояса! Не дай бог, ревматизм, воспаление легких…
— Ревматизм, воспаление легких, ангина, коклюш! — разозлился папа. — Кому нужна эта болтовня! А в окопах не было ледяной воды? А вшей в окопах не было! А босиком по снегу, а три дня без куска хлеба, без глотка воды! Много она знает.
Папа правильно говорил: откуда мама могла знать про это — она же не была на гражданской войне. А папа был.
— Много она знает! — сердито повторил папа, и вдруг с коридора рванули нашу дверь и голосом мадам Чеперухи крикнули:
— Торгсин горит!
— Торгсин! — пришла в ужас мама. — Боже мой, это же возле нас!
Мы с папой оделись и побежали на Бебеля.
Мадам Чеперуха сказала правду: торгсин горел. Старик, который стоял рядом, говорил, что горит уже с четверть часа — не меньше. Он только вышел из церкви, и ему сразу показалось, что тянет дымом.

Очерки и эссе о русских прозаиках и поэтах послеоктябрьского периода — Осипе Мандельштаме, Исааке Бабеле, Илье Эренбурге, Самуиле Маршаке, Евгении Шварце, Вере Инбер и других — составляют эту книгу. Автор на основе биографий и творчества писателей исследует связь между их этническими корнями, культурной средой и особенностями индивидуального мироощущения, формировавшегося под воздействием механизмов национальной психологии.
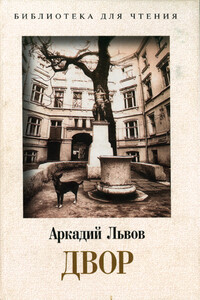
Довоенная Одесса…Редко можно встретить такое точное описание столкновений простого советского человека — не интеллектуала, не аристократа, не буржуа и не инакомыслящего — со скрытым террором и повседневным страхом. Бывшие партизаны и бывшие мелкие торговцы, евреи и православные, оппортунисты и «крикуны», герои и приспособленцы, стукачи и партаппаратчики перемешаны друг с другом в этом закрытом мирке и являют собой в миниатюре символ всей страны. Они вредят другим и себе, они обнимаются, целуются и много плачут; они подтверждают расхожее мнение, что советское общество состояло из людей, которые его вполне достойны, и что существует своеобразное соглашение между человеком, сформированным коммунистической системой, и самой системой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
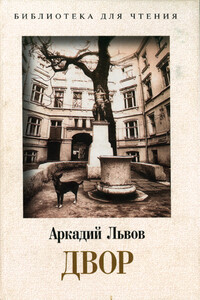
Довоенная Одесса…Редко можно встретить такое точное описание столкновений простого советского человека — не интеллектуала, не аристократа, не буржуа и не инакомыслящего — со скрытым террором и повседневным страхом. Бывшие партизаны и бывшие мелкие торговцы, евреи и православные, оппортунисты и «крикуны», герои и приспособленцы, стукачи и партаппаратчики перемешаны друг с другом в этом закрытом мирке и являют собой в миниатюре символ всей страны. Они вредят другим и себе, они обнимаются, целуются и много плачут; они подтверждают расхожее мнение, что советское общество состояло из людей, которые его вполне достойны, и что существует своеобразное соглашение между человеком, сформированным коммунистической системой, и самой системой.

«Двор» — книга третья. Долгожданное продолжение классической эпопеи знаменитого Аркадия Львова.Первые две книги были опубликованы еще в 1979–1981 годах и переизданы «Захаровым» в 2002 году.

По некоторым отзывам, текст обладает медитативным, «замедляющим» воздействием и может заменить йога-нидру. На работе читать с осторожностью!

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.