Большая барыня - [3]
— Батюшкин, — прибавил штаб-ротмистр, — знаю!
— Ловко ли будет, сударь?
— Как ловко ли? отчего ловко ли?
— Так, батюшка Петр Авдеевич, все думается, что скончаться изволили…
— Неужто же ты боишься, Кондратий Егорович! — заметил, улыбаясь, штаб-ротмистр.
— Бояться? чего бояться, сударь? жизнь кончили христиански, бояться грех, а все думается…
— Полно, брат, мертвые не встают; вели-ка постлать мне на этой кровати, вот и все. Видел ли ты сына, Егорыч? — прибавил штаб-ротмистр, садясь в кресла, — посмотри, какой молодец!
— Много доволен вашими милостями, батюшка Петр Авдеевич! — воскликнул приказчик, снова бросаясь к барской руке, — кому же и беречь слугу, как не господину: я ваш слуга.
— И лихой малый, надобно правду сказать, Егорыч, проворный такой, хват, доволен очень.
— А довольна ваша милость, и я спасибо скажу, сударь. Что, пьет он, Петр Авдеич?
— То есть как тебе сказать? пить пьет; кто же не пьет? и я пью.
— Ну, слава же тебе, господи, — повторил старик с умилением.
— Разумеется, случится, выпьет, — продолжал, потягиваясь, штаб-ротмистр, — да у меня, знаешь, Егорыч, пить пей себе — слова не скажу, и пьян будь — ничего, ну, а уж дело какое случится, понимаешь?
— Как же не понимать, сударь, известно, дело случится!..
— Вот то-то же; впрочем, грешно сказать, малый на все взять; послать ли куда, купить ли что, у полковника вечер какой, обед… принарядиться… одно — на руку не чист; положишь оплошно, не прогневайся!
— Что вы, батюшка, упаси же, господи!
— Небось думаешь у меня? нет, брат, за этакое, брат, дело, он знает… ни-ни! а вот у другого кого — мое почтение!..
— Ну, коли не у вас, батюшка, Петр Авдеич, так дело другое, а господского не тронь, не то не посмотрю, и вы, сударь, не прогневайтесь, такую трепку задам!
— Нет, нет, грешить не хочу, Кондратий Егорыч, за моим добром блюдет, как следует; нечего пустого и говорить!.. Ну, скажите же, Кондратий Егорыч, вспоминал ли батюшка обо мне, когда умирал?
— Как же не вспоминать, Петр Авдеич, ведь родное дитя и одни изволили быть у покойного барина.
— Как же он вспоминал?
— А вот говорили, бывало: «Где-то теперь Петруша? чай, по фронту или ученьем каким заниматься изволит!» А в другой раз, под вечер, спросят карты и гадают все об вас, батюшка, и скоро ли женитесь, и какой там чин получите; а кончаться стали-с сердечные: «Воды», — говорят, воды просили, мучились жаждою и чего ни делали; нет, видно, срок пришел, сударь, от смерти не уйдешь, не спрячешься.
— Посылали ли вы за лекарем, Егорыч?
— За лекарем, батюшка? за лекарем-то, правда, не посылали; священник же, отец Аникандр, был и при самом издыхании все находился при барине!.. завидная кончина! — приказчик вздохнул, окончив свое повествование, а Петр Авдеевич предался хотя не продолжительному, но грустному размышлению.
Пока барин разговаривал с приказчиком, камердинер вытащил из перекладной телеги рыжеватый чемодан, кожаную сумку, погребец[15], обитый телячьей шкуркой, кулек с колодками[16], саблю, завернутую вместе с чубуком, и пару чудовищных пистолетов; все это разложил Ульян (так звали камердинера) на дощатом крыльце, окруженном толпою дворовых женщин и детей обоего пола. Когда же, перешарив сено, камердинер отыскал остаток стамбулки[17], то вынул из кармана шаровар гарусный кошелек[18], достал оттуда медный пятак, бросил его ямщику, потом снял фуражку и принялся обнимать поочередно предстоявшую публику, наделяя каждого тремя полновесными поцелуями. Все это происходило в Костюкове, Колодезь тож, часов около двух пополудни. Более получаса употребил Петр Авдеевич на грустные и тяжкие размышления и воспоминания, но желудок штаб-ротмистра, не принимавший, по-видимому, ни малейшего участия в скорби сердца, шепнул наконец, что час обеденный наступил давно.
— А что, брат Егорыч, ведь поесть бы надобно, — сказал барин, обращаясь к приказчику.
— Как же, батюшка, надобно, особенно после дороги.
— То-то, Кондратий, да есть ли у вас что-нибудь?…
— Что вы, сударь, в господском доме да не найти?… все есть; прикажете позвать Прокофьича?
— Жив разве?
— Что нам, старикам, делается?
— Так позови Прокофьича, или… постой; вот что, Егорыч, потрудись, любезный, приказать ему состряпать так, что-нибудь; супу не нужно, прах ли в нем, а гуся или уточку.
— Слушаю-с, слушаю-с.
— Потом ветчинки провесной[19] нарезать этак ломтиков с пяток, да чтобы сальца не отрезывал прочь.
— Понимаю-с, понимаю-с.
— Или почек, когда бы достать можно было, так селянку[20] на сковороде с луком.
— Слушаю-с, слушаю-с, батюшка Петр Авдеич, извольте быть благонадежны, все прикажем мигом.
— Пожалуйста, братцы, поторопитесь.
— Слушаю-с, слушаю-с, — повторил приказчик, пускаясь бегом вон из комнаты, в которой остался полуутешенный Петр Авдеевич. Он потер себе руки, потом пожевал ус и, встав с кресел, принялся осматривать окружавшие его предметы. Первое, что попалось ему на глаза, был шкап с книгами. Штаб-ротмистр поспешил отвести взор свой от этого слишком живого воспоминания чего-то весьма неприятного: Петр Авдеевич никогда не мог забыть слез, пролитых им некогда над «Кратким изложением всех пяти частей света»

Василий Александрович Вонлярлярский (1814–1852) – популярный русский прозаик середины XIX века.Зарубежные впечатления писателя лежат в основе рассказа «Турист».Впервые рассказ был опубликован в 1852 году в журнале «Отечественные записки» (№ 2).

Василий Александрович Вонлярлярский (1814–1852) – популярный русский прозаик середины XIX века.Зарубежные впечатления писателя лежат в основе рассказа «Байя»Впервые в кн.: Раут. Литературный сборник в пользу Александрийского детского приюта. Издание Н. В. Сушкова. М., 1851, с. 64–75. Фрагменты чернового автографа сохранились в ГАСО (ф. 1313, оп. 2, ед. хр. 17, л. 32–33 об., 34 об.-35 об.).

Василий Александрович Вонлярлярский (1814–1852) – популярный русский прозаик середины XIX века.Зарубежные впечатления писателя лежат в основе рассказа «Воспоминание о Захаре Иваныче»Рассказ впервые опубликован в журнале «Современник» в 1851 году (№ 6).Произведение подверглось довольно серьезному вмешательству цензуры. Наибольшие претензии вызвали эпизоды с участием принадлежащего Захару Иванычу крепостного, называемого им Трушкой. Даже самая эта кличка была последовательно заменена в печатном тексте на нейтральное «Трифон».
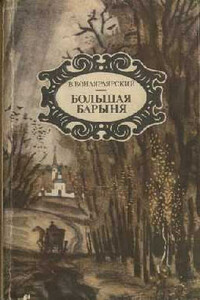
Василий Александрович Вонлярлярский (1814–1852) – популярный русский прозаик середины XIX века.Зарубежные впечатления писателя лежат в основе рассказа «Абдаллах-Бен-Атаб»Полностью рассказ впервые напечатан в альманахе «Раут на 1852 год. Исторический и литературный сборник. В пользу учебного заведения для благородных девиц ведомства дамского попечительства о бедных в Москве» (М., 1852). До этого значительная часть произведения была опубликована в «Отечественных записках» (1850, № 6, отд. 8 «Смесь», с. 149–156) под заглавием «Охота в окрестностях Мильяны (Из путевых записок В.

Василий Александрович Вонлярлярский (1814–1852) – популярный русский прозаик середины XIX века.Повесть впервые опубликована в журнале «Отечественные записки» (1852, № 4–5).Интерес Вонлярлярского к роли легенд и преданий в жизни общества, попытка вскрыть рациональную их природу не были замечены критиками, порицавшими чрезмерную запутанность интриги и обилие случайностей, из которых складывается сюжет «Ночи на 28-е сентября».

Василий Александрович Вонлярлярский (1814–1852) – популярный русский прозаик середины XIX века.Зарубежные впечатления писателя лежат в основе рассказа «Поездка на марсельском пароходе»Рассказ впервые опубликован в журнале «Отечественные записки» (1850, № 12, отд. 8 «Смесь», с. 177–201). Это первое произведение, напечатанное за полной подписью писателя.

Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь — постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ — своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, — это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества. Впервые — Современные записки.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
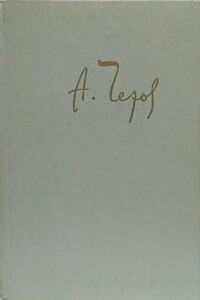
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.