Богема: Опыт сообщества - [27]
Итак, у повседневности имеются два полюса, без учета которых она не может быть схвачена. Это — «город» и «другие». Тема коммуникативного пространства современного города, и как оно формирует иной характер субъективности, — одна из основных в творчестве Вальтера Беньямина. Однако, отмечая то, что современный горожанин (фланер, кинозритель, потребитель информации) все более теряет личностные характеристики, становится человеком толпы, Беньямин, тем не менее, не склонен задаваться вопросом о «другом». Для него масса, толпа и есть тот самый субъект, который действует в городском пространстве, который воспринимает современное (тотально тиражируемое) зрелище. Фактически, Беньямин постоянно пишет об изменяющемся характере чувственности, когда ежедневное рассеянное внимание, неактивное действие становится все более значимым, выходит на первый план, формируя особую эстетику существования в мире производства и потребления, в мире практических и политических ценностей.
С другой стороны, Мартин Хайдеггер, философ чуждый городу, как никакой другой, консервативный в своем отношении к новым технологиям и к новым средствам выражения в искусстве, пытается обнаружить в повседневной жизни иной характер временности — озабоченность (когда мы существуем не в качестве индивидов, не в собственном бытии — в–мире, но в модусе «некто», постоянно упуская самих себя в не — осознанности и ненамеренности регулярно повторяемых действий). Это то, что Хайдеггер называет несобственным бытием или бытием — с–другими, когда «другой» становится структурой, предшествующей любому ощущению присутствия в мире, формируя присутствие не только в качестве «собственного бытия», но и как его утрату в неприсваиваемой повседневности, где действуют правила «других», где господствует язык, который говорит без меня, который «говорит» даже в тишине и в молчании.
Эти две координаты отношения к языку повседневности (условно — беньяминовская и хайдеггеровская) определили тот структуралистский интеллектуальный бум, пик которого пришелся именно на 60‑е годы. Интерес исследователей переместился из области знания, с объекта исследования как такового, в сторону функциональных отношений между различными объектами, в сторону так называемых знаковых систем. Не случайно все меньше и меньше становилось привилегированных объектов для анализа. Ценностью начинают обладать не только авторские произведения, но и газетные хроники, рекламные ролики, популярные кинофильмы, модные журналы, клише, которые в них себя обнаруживают. Подобные «мифологии» общественного сознания анализирует Ролан Барт. Мишель Фуко (как и, например, представители школы «Анналов») совершает попытку отыскания таких пластов повседневности, которые всякий раз исчезают при смене исторических эпох, оказываясь погребенными под грудой исторических фактов.
В отличие от марксизма, интерпретировавшего будни современного человека исключительно исходя из экономических отношений, структуралисты попытались расширить возможности этого языка. В результате сам язык стал доминантой их исследований. Повседневность в ее социальном, эстетическом или психическом измерении обрела символический характер и этот символический характер резко противостоял той политике языка, которая постоянно придавала смысл всем окружающим нас вещам. И Барт, и Фуко, и Альтюссер, и даже Лакан, фактически стремились к выявлению функционирования аполитических знаков и отношений между ними, которые в силу своей будничности и слабой выраженности легко оприходуются политикой. Непосредственно соприкасаясь с языком, политика скрывается в тех дискурсивных практиках, которые и формируют порядок повседневности. Однако, как показал Фуко, высказывания, принадлежащие порядку повседневности, не состоят из знаков, но, напротив, производят те самые знаки, через которые затем проходят политики знания, понимания и интерпретации. Попытка выявления доинтерпретативного состояния высказываний, когда они еще не приняли участия в производстве дискурса, есть то, что Фуко назвал «археологией». Это, собственно, и есть выявление того типа повседневности, в котором формируется определенный дискурс (как научный, так и художественный, и политический). Всякая повседневность, столетней давности или вчерашнего дня, требует для себя археологии, поскольку оказывается моментально скрыта слоем политически и практически «актуального» настоящего, настоящего, наделенного смыслом. Смысл повседневности может быть обретен не в каком — либо конкретном факте, но в серии повторяющихся событий, кажущихся бессмысленными: в оформлении витрин, форме каблуков, в прическах, книжных шрифтах, в планировке комнат и кабинетов, в шлягерах, звучащих из магнитофонов, то есть во всем том, что требует для себя интенсивности городского существования, его повторяемости, регулярности и механистичности, и в том, что предполагает «других, тех, с кем это существование разделено абсолютно. Так, реклама и телевидение — это такие способы выражения, которые стремятся (и в этом их максимальная эффективность) совпасть с самой повседневностью, с самой реальностью мира настолько, чтобы уже невозможно было бы отличить мир от его информационной копии. Можно даже сказать, что ускользавшая от взгляда аналитика повседневность именно в современных средствах массовой коммуникации получила способ своего выражения, обрела свои образы и знаки. И это началось с появления кино. Именно в кино эстетическое удовольствие сменилось коммуникативным. Именно в этом зрелище, без которого современный город немыслим, человек нормы обрел общность удовольствия, удовольствие разделяемое с другими. Кино — это пространство абсолютного единения в удовольствии и разъединения в отчуждении. Это пространство, в котором знаки и образы воздействуют как сама реальность, где переживание оказывается всякий раз не только твоим, но и переживанием другого, от твоего неотделимым. Пьер Паоло Пазолини называл это «несобственной прямой субъективностью», когда невозможно определить «кто говорит», когда сама реальность в навязчивых образах восприятия становится «говорящей». В 60‑е годы Жан — Люк Годар попытался обнажить эти образы как идеологические штампы с помощью радикального остраняющего монтажа действия. Этот жест он назвал политическим, хотя сейчас видится, что «политического» в нем остается все меньше и меньше. Слова «гошизм», «маоизм» стали достоянием истории, а сам жест, данный в его кинематографе, как и в фильмах, газетных эссе, интервью, выступлениях на площади других его современников, обнажает для нас сегодня то, что скрывалось за политической риторикой: повседневность. А точнее, первые «революции повседневности», бунты, ставшие свидетельством того, что мышление в его постоянной несвоевременности и сама современность неожиданно совпали. И эта противоречивая соединенность и по сей день дает нам шанс, находясь в рутине будней, не увязнуть в пространстве политического окончательно.
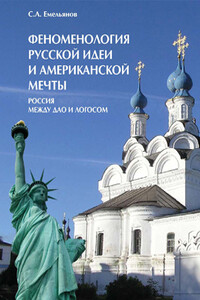
В работе исследуются теоретические и практические аспекты русской идеи и американской мечты как двух разновидностей социального идеала и социальной мифологии. Книга может быть интересна философам, экономистам, политологам и «тренерам успеха». Кроме того, она может вызвать определенный резонанс среди широкого круга российских читателей, которые в тяжелой борьбе за существование не потеряли способности размышлять о смысле большой Истории.

Дворец рассматривается как топос культурного пространства, место локализации политической власти и в этом качестве – как художественная репрезентация сущности политического в культуре. Предложена историческая типология дворцов, в основу которой положен тип легитимации власти, составляющий область непосредственного смыслового контекста художественных форм. Это первый опыт исследования феномена дворца в его историко-культурной целостности. Книга адресована в первую очередь специалистам – культурологам, искусствоведам, историкам архитектуры, студентам художественных вузов, музейным работникам, поскольку предполагает, что читатель знаком с проблемой исторической типологии культуры, с основными этапами истории архитектуры, основными стилистическими характеристиками памятников, с формами научной рефлексии по их поводу.
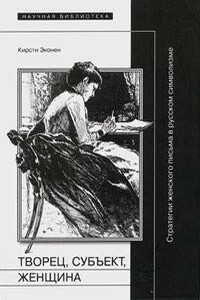
В работе финской исследовательницы Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской, Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания — осмысление ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути преодоления господствующего маскулинного эстетического дискурса и способы конструирования собственного авторства.

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Источник: "Памятники средневековой латинской литературы X–XII веков", издательство "Наука", Москва, 1972.