Богема: Опыт сообщества - [26]
Произведение — это и есть предъявление рефлексии (способность описания себя в терминах формы). Может быть, даже катартичность некоторых объектов современного искусства — это своего рода обманка для продавцов? Сегодня функцию катарсиса очень мощно перехватило кино. То, что художники используют видео, это явный жест в сторону массовой культуры — там еще сохраняется катарсис, но катарсис ли это в привычном смысле? Скорее следует признать, что традиционная катартическая составляющая искусства очень ослаблена в современном мире.
Там, где все еще хочется видеть произведение, вполне можно рассмотреть то сингулярное действие, которое включает себя некоторый элемент сериальности, создавая иное коммуникативное поле. Сообщества может обнаружиться в любой инсталляции, в любом художественном проекте — это не имеет значения. Первостепенным является то, через какие элементы оно проводит свой аффективный смысл. В данном случае, подчеркну еще раз, аффект — это не то, что испытывает зритель, «потребляя» произведение. Я говорю о слабом коммуникационном аффекте, связывающем художников в сообщество. Это всегда внешний аффект, который не имеет «внутреннего», поскольку то переживание, которое мы называем «внутренним аффектом» обучено восприятию формы, то есть заранее ориентировано на произведение. Я же имею в виду аффект, устанавливающий связь с другими, до которой еще не добрались психология и социальная сфера.
Приходя на вернисаж, и видя то, что художники сегодня называют произведением, невозможно не заметить другое — их язык, дискурс, который взыскует зрительского и коммерческого успеха. Возможно, это поддержит искусство в его институциональном статусе, но я все время пытаюсь сказать о другом: не о бытии искусства, о об искусстве как способе бытия, или даже об искусстве бытия. И когда я говорю о художнике, я в первую очередь имею в виду не человека, а это искусство бытия. Вопросы об институциях, о произведении, о деньгах, зрителях относятся к сфере бытия искусства, к его существованию в мире в качестве ценности, требующей для себя онтологии.
Искусство же в качестве бытия предполагает сначала искусство как коммуникативную ценность. Как необходимое средство обращения к Другому, заставляющего людей через него войти в сообщество, а потому и называемое здесь сообществом художников. Именно так и появляется идея искусства в его невозможности стать бытием.
Ситуация тотального институционального контроля, которая возникает сейчас в художественной среде, оказывается очень продуктивна именно потому, что становится понятным: художественный жест сильным быть не может. Ослабление жеста и существование искусства на все более узкой территории требует гораздо большей изобретательности, а точнее — ответственности от художника.
Я говорю об ответственности в том смысле, что ты заранее знаешь, на что идешь. Особая общественная индульгенция для художника как представителя искусства перестает существовать. Искусство постоянно указывает обществу, где проведена эстетическая (и этическая) граница и насколько эта граница условна. И сегодня художники разделены кардинально на тех, кто участвует в произведении (то есть в бизнесе), и на тех, кто отказывается от этого и кому придется быть очень ответственными в своих неработающих, неэффективных жестах.
Мне кажется, что эта линия разграничения очень важна, потому что слова, декларации будут иметь гораздо меньшее значение, а жест должен стать более зрим, более очевиден в своей чистоте. Это чем — то даже напоминает ситуацию советских времен, когда был своего рода гамбургский счет: понятно, кто чего стоит, несмотря на то, что никакие цены ни за что не платились. Все фигуры того времени состоялись исторически именно в силу их коммуникативного сопротивления и их коммуникативного таланта в сообществе. Это было гораздо важнее, чем отдельные произведения.
Мне кажется, сейчас возвращается именно эта идея серийного, слабого жеста, который не противостоит политике и обществу, а ускользает от нее. «Линии ускользания» (Делёз) гораздо более труднонаходимы, чем простые, агрессивные жесты. Это линии неучастия в работе, в общем деле и, как следствие, в произведении. Именно по этим линиям мы фиксируем ту общность, где разъединенные, совершенно несхожие художники опознают друг друга, становятся сообщниками, несмотря на их абсолютное различие, и даже несмотря на их социальное единение перед банковским чеком.
К вопросу о семиотике повседневности
В слове «повседневность» трудно расслышать что — то такое, что связывало бы его с определенным периодом истории. Кажется, что на протяжении всего XX века «повседневность» была постоянной темой рефлексии философов и исследователей культуры. Кажется, что именно «повседневностью» был озабочен и предыдущий XIX век (действительно, кто как ни Бальзак, Бодлер, Маркс ближе всего подошли к сути негероического существования самого обыкновенного жителя города, будь то клошар, рабочий или представитель богемы?). Однако путь к теоретическому осмыслению феномена повседневности был долог и нет никакой уверенности в том, что он пройден. Повседневность всегда смущала своей неуловимостью. В ней было сконцентрировано нечто, что словно запрещало сам акт рефлексии: как только начинаешь о ней думать — она ускользает в потоке практических действий. Тем не менее, именно «язык повседневности» стал тем, что настоятельно требовало осмысления. Именно этот «язык» говорит всегда до того, как кто — то говорит о нем. Он является неощущаемым условием нашей речи. Мы вписаны в него, в те правила коммуникации, которые составляют почти непроницаемую мишуру нашего ежедневного существования, существования в неречевом пространстве современного города, где мы всегда окружены «другими». Где мы действуем так же, как другие: читаем газеты, едем в метро, опаздываем на свидание, совершаем покупки, смотрим кино…
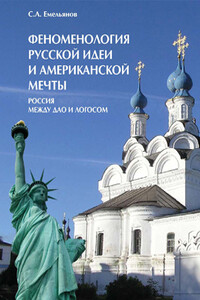
В работе исследуются теоретические и практические аспекты русской идеи и американской мечты как двух разновидностей социального идеала и социальной мифологии. Книга может быть интересна философам, экономистам, политологам и «тренерам успеха». Кроме того, она может вызвать определенный резонанс среди широкого круга российских читателей, которые в тяжелой борьбе за существование не потеряли способности размышлять о смысле большой Истории.

Дворец рассматривается как топос культурного пространства, место локализации политической власти и в этом качестве – как художественная репрезентация сущности политического в культуре. Предложена историческая типология дворцов, в основу которой положен тип легитимации власти, составляющий область непосредственного смыслового контекста художественных форм. Это первый опыт исследования феномена дворца в его историко-культурной целостности. Книга адресована в первую очередь специалистам – культурологам, искусствоведам, историкам архитектуры, студентам художественных вузов, музейным работникам, поскольку предполагает, что читатель знаком с проблемой исторической типологии культуры, с основными этапами истории архитектуры, основными стилистическими характеристиками памятников, с формами научной рефлексии по их поводу.
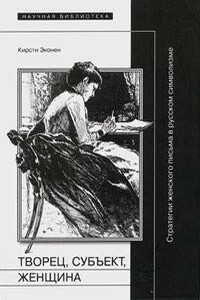
В работе финской исследовательницы Кирсти Эконен рассматривается творчество пяти авторов-женщин символистского периода русской литературы: Зинаиды Гиппиус, Людмилы Вилькиной, Поликсены Соловьевой, Нины Петровской, Лидии Зиновьевой-Аннибал. В центре внимания — осмысление ими роли и места женщины-автора в символистской эстетике, различные пути преодоления господствующего маскулинного эстетического дискурса и способы конструирования собственного авторства.

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Источник: "Памятники средневековой латинской литературы X–XII веков", издательство "Наука", Москва, 1972.