Блестящее одиночество - [13]
Зал ожидания — с липким, замызганным полом, с мутными, в подплевах окнами — пестрел публикой. Скамьи в основном были заняты. Кто-то доедал огурец, кто-то менял онучу, а кто-то подавно спал, мелодично посвистывая. Стеклянная от недосыпа буфетчица в кружевной наколке, каких пруд пруди по полустанкам страны, сомнамбулически, в забытьи протирала столики. Протяжно зевали, сворачивая скулу набок, слипшиеся за ночь стрелочники. По Москве несмело стелился жидкий рассвет.
До восьми часов вечера, на которые Сыркин назначил Степану встречу, оставался весь день. Проклиная свою диковинную забывчивость — хотя что-то тут было не так, и он не мог понять что, — Пиздодуев силой втиснулся в просвет на скамье, свернулся калачиком. Тяжело упал тугой куль. Отпихивая Пиздодуева пятками, сквозь сон застонала женщина. Но ничего этого Пиздодуев уже не слышал. Он спал.
„О’кей“, — сказал Мирон Миронович, нежно погладил спинку скамейки и первым поднялся. „Все, что вы мне здесь пехедали, и кахгу, — он похлопал себя по внутреннему карману, — я, разумеется, передам дальше, мы пхимем мехы“. — „Нет, нет, вы не поняли, — широко заулыбался Пиздодуев, прижав руки к груди. — Меры, какие меры, что вы, ей-богу, впрямь! Не так, без балды — воздушная ядерная атака прямой наводкой. По типографии, потом Кремль — лягушатники уже и там загнездились, но замаскированы под людей, вы меня понимаете?..“ Мирон Миронович сделал предостерегающий жест рукой. „Пхостите, мой молодой дхуг, но эха гохячих войн пхошла, — соврал он. — Пхитом моя дехжава не заинтехесована в остхом междунаходном конфликте“. — „Какой международный конфликт! Вы что! — и Пиздодуев в досаде хлопнул себя по ляжкам. — Мы доживаем последние часы в старом мире! Завтра лягушачья зараза расползется везде! Тактика молниеносного реагирования — вот наш последний шанс!“ — „Ну, хохошо, хохошо, — еще раз соврал Сыркин. — Мы будем хешать, договахиваться…“ — „Давайте, договаривайтесь, — отчаявшись, сказал Пиздодуев. — Но только попомните мои слова (он резанул паузой), они идут и по вашему следу“. Фигура Пиздодуева замаячила на горизонте, срезаясь крутым обрывом. Степан спускался к реке. „Да ради Бога, — прокричал Сыркин ему вдогонку. — Не ночуйте, пожалуйста, на вокзалах, поищите себе другое прибежище“. Внизу, угасая, поблескивала река. Бесшумно ползли пароходы. Вспыхивали, слепя, огни. Огромный город медленно таял в вечерних сумерках.
В штабе лягушатников, за столом зеленоватого стекла с вкраплениями алмазной крошки, под тусклым мерцанием вдавленных в потолок плафонов, на прозрачных вертящихся табуретах сидела компания отлично одетых людей. Один из них, Восковой, смахивающий на манекена, со сцепленными на столе руками, тихо и внятно, не поднимая головы, сказал: „Ну-с, господа, я задал вопрос, — и потом, после паузы: — Так где же он, господа? Чай, не на Марсе?“ — „Изволите шутить, ваше высокородие“, — иронически отозвался другой, с прилипшими к лысому черепу большими ушами, стремительно завертевшись на табурете. „Нимало, — сказал Восковой. — Я решительно настаиваю, чтобы поимка произошла немедленно. Это из рук вон, господа. Не полагаю, чтобы понадобились особые меры. Кончено“. Третий, похожий на мумию, какой-то Забальзамированный, который и звался-то Бальзамир Перепончатый (больше ни у кого из присутствующих имен пока еще не было), до тошноты маячивший туда-сюда на пол-оборота, притормозив, возразил: „Как? Извольте войти в мое положение. Ведь ситуация такова, что недолго и упустить. Велите-ка лучше дать вспоможение“. — „Право, теперь дать нельзя, — сказал, захрустев пальцами, Восковой. — Об исчезновении интересующего нас лица поползли нехорошие слухи. В народе волнение. Я не думаю, чтобы мы были вправе пренебрегать. Все наши теперь там…“ — „Полноте, подите с ними! — прервал его Бальзамир. — Сущая безделица, а не бунт — пошлите узнать. Напротив, судя по настроениям, народ в радостном ожидании перемен“.
„Я затрудняюсь утверждать правоту вашего рассуждения. Риск не в моем стиле. Поэтому поимка будет произведена малыми силами. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить гнусную провокацию известного всем лица, которое угрожает безопасности государства, мы выкрикнем свое „нет“, мы задавим зверя в его берлоге, — сказал Восковой без выражения на лице и, словно опомнившись, обратился к четвертому, который сидел, уставившись в одну точку впереди себя: — Да только поспеют ли? Завидят ли ночью огни? Что, смирны ли у них нынче лошади?“ — невпопад спросил он. Вперед Смотрящий в раздумье закрутился на табурете, но башка оставалась на месте, и он продолжал, вперившись, смотреть в невидимое пространство. Тут и другие пошли вращаться, некоторые завертелись до вихря. В особенности старался тот, горящий фосфорическим светом, который мелькал и мелькал, будто маяк в дурную погоду.
„Все это вздор, — вмешался Бальзамир, единственный не завертевшийся. — Нужды нет, что мы копыта-то избегали искавши, ноги, поди, прямо в жопу растут, а ты пиздеть!“ Восковой медленно поднял на него бездонные пустые глаза, в которых не было ничего — ни гнева, ни усталости, ни печали, а только отражение тусклых полночных ламп. „Рыло, — сказал он, — знай свое свиное корыто!“ И хрястнул кулаком что есть мочи. По стеклу разбежались мелкие паутинки. „Найти мне его, из-под земли, блядь, достать!“ Восковой заскрежетал по столу длинными, загнутыми внутрь ногтями. Другие с готовностью сделали то же. Пошел скрежет. Торжественно помолчали.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

На самом деле, я НЕ знаю, как тебе помочь. И надо ли помогать вообще. Поэтому просто читай — посмеемся вместе. Тут нет рецептов, советов и откровений. Текст не претендует на трансформацию личности читателя. Это просто забавная повесть о человеке, которому пришлось нелегко. Стало ли ему по итогу лучше, не понял даже сам автор. Если ты нырнул в какие-нибудь эзотерические практики — читай. Если ты ни во что подобное не веришь — тем более читай. Или НЕ читай.

Макс жил безмятежной жизнью домашнего пса. Но внезапно оказался брошенным в трущобах. Его спасительницей и надеждой стала одноглазая собака по имени Рана. Они были знакомы раньше, в прошлых жизнях. Вместе совершили зло, которому нет прощения. И теперь раз за разом эти двое встречаются, чтобы полюбить друг друга и погибнуть от руки таинственной женщины. Так же как ее жертвы, она возрождается снова и снова. Вот только ведет ее по жизни не любовь, а слепая ненависть и невыносимая боль утраты. Но похоже, в этот раз что-то пошло не так… Неужели нескончаемый цикл страданий удастся наконец прервать?

Анжелика живет налегке, готовая в любой момент сорваться с места и уехать. Есть только одно место на земле, где она чувствует себя как дома, – в тихом саду среди ульев и их обитателей. Здесь, обволакиваемая тихой вибраций пчелиных крыльев и ароматом цветов, она по-настоящему счастлива и свободна. Анжелика умеет общаться с пчелами на их языке и знает все их секреты. Этот дар она переняла от женщины, заменившей ей мать. Девушка может подобрать для любого человека особенный, подходящий только ему состав мёда.
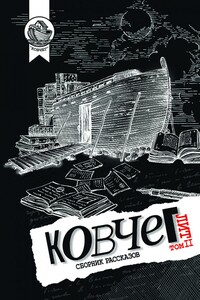
В сборник "Ковчег Лит" вошли произведения выпускников, студентов и сотрудников Литературного института имени А. М. Горького. Опыт и мастерство за одной партой с талантливой молодостью. Размеренное, классическое повествование сменяется неожиданными оборотами и рваным синтаксисом. Такой разный язык, но такой один. Наш, русский, живой. Журнал заполнен, группа набрана, список составлен. И не столь важно, на каком ты курсе, главное, что курс — верный… Авторы: В. Лебедева, О. Лисковая, Е. Мамонтов, И. Оснач, Е.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.