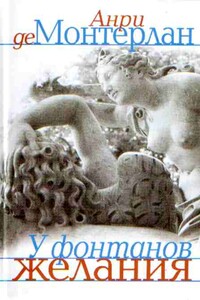«Иблис сказал: „Во мне есть то, чего никто не знает, никто, кроме меня. Часто я помогаю ребенку, бредущему с непосильным грузом… Или шепну на ухо девице, что обольститель дурачит ее. Когда спящему угрожает враг, я лаю, и он вовремя просыпается. Ложусь с дрожащим от холода старцем и согреваю его под своими широкими крыльями. Странное дело, я люблю людей!..“
Иисус сказал ему: „Ты исполнен Небес, и поэтому ты искупитель. Но можно ли тебе верить?“ Иблис ответил: „А почему не верить мне?“ Иисус сказал: „Разве ты не знаешь, наказание демонам именно в том, что им не верят. Я думаю, ты говорил от своей гордыни“. Иблис сказал: „Во мне ее нет“. Но Иисус подумал про себя: „Нельзя отдавать ему должное, это породит у него гордыню“.
Иисус отошел в сторону и заплакал. Потом возвратился к Иблису и сказал ему: „Я плачу, ибо все-таки поверил тебе. О, Люцифер, ты, созданный как радость и празднование, ты, столь прекрасный в небесах, молись Отцу моему, чтобы возвратил он тебя на те благословенные луга, где некогда был ты столь блистателен“. Но Иблис сказал: „Этого не может быть“. Иисус спросил: „Почему? Ты же сам признался, что, творя зло, не испытывал наслаждения. И сказал потому о своих добрых делах“. Иблис отвечал ему: „Но и от добрых дел у меня не было наслаждения“. И тогда Иисус оставил его.
Из леса вышли звери и подошли к Иблису посмотреть на его страдания. Когда жара спала и для людей пришло время выходить из домов, те звери, которые молятся демонам (они подобны цветам без стеблей), сказали Иблису: „Уходи, люди увидят тебя и побьют камнями“. И тогда Иблис направился к городам и творил там добро и зло».
Косталь закрыл книгу, положил пальцы на веки и снова стал писать.
Он писал по десять часов двенадцать дней, отяжелевший от своих замыслов и творческой радости. И написанное им было хорошо.
Он писал еще четыре дня по четырнадцать часов. Потом он позволил себе отдых: три дня охотился за женщинами, и у него было два любовных приключения.
Потом он писал опять — пятнадцать дней по двенадцать часов и затем отдыхал: охотился два дня, но неудачно.
И еще четырнадцать дней по двенадцать-тринадцать часов и опять отдых: три дня бесполезной охоты.
Потом еще шесть дней, опять девять-десять часов. На шестой день он уже пыхтел, как бык, и, глядя на все написанное, весело сказал: «Черт возьми, ну и наделал я дел!» Косталь вкладывал самого себя и все-таки сохранял все в себе: как и в плотских наслаждениях, его всегда переполняло то, от чего он освобождался.
Он писал еще одиннадцать дней, а наутро двенадцатого, который был семьдесят первым днем его творения, он насытился и возвратился в Париж.