Без заката - [37]
— Наше знакомство с вами началось очень банально.
— Да. И потому хорошо.
— Что хорошо?
— Все.
Карелов долго смотрел на Веру.
— Это вы когда придумали, сейчас?
Она улыбнулась ему так, что все его лицо затрепетало.
— Нет, я это думала всегда.
Карелов встал и прежде, чем он сделал первый шаг в ее сторону, она встала тоже и почувствовала, что этот круглый стол станет сейчас ее обороной. Стол стоял между ними, на нем — пустая ваза желтого стекла.
— Почему, собственно, вы уехали? — спросил Карелов, дотрагиваясь рассеянно до вазы. — Ведь вы уехали от меня.
Ей захотелось кинуться к нему, прижаться щекой к его щеке, сказать ему безрассудные, бесповоротные слова, дышать его дыханием, чувствовать грудью тепло его груди, но вместо этого (так надо, так надо!) она тоже тронула рукою край желтого стекла и сказала:
— Не знаю. Мне всякий раз кажется, что тут еще живет дыхание того человека, который выдул эту штучку.
Он молча смотрел ей в глаза, и она чувствовала, как через короткие промежутки времени — пять-шесть ударов сердца — глаза его опускаются все глубже в ее глаза, и еще, и еще, и вот сейчас он дойдет до дна, если оно только есть…
«Когда он опрокинет этот стол и эту вазу, — думала она краем мысли, — будет ужасный грохот».
Карелов все смотрел, внезапно он одной рукой взялся за край стола, другой схватил Веру за руку. Раздался звон разбитого стекла.
— Вы разбили штучку с дыханием, — сказала она, силясь улыбнуться, но лицо ее не послушалось, и она вырвала руку.
XXIII
Она слишком много в жизни кидалась — от счастья, от жалости, от любопытства, от молодости… Теперь довольно. Вырваться отсюда и тихонько за дверью поблагодарить Бога за то, что она уже больше не тот голодный, дикий, одинокой ребенок, такая некрасивая, толстая девочка, ничем не болеющая, всему радующаяся… За то, что в нужный момент (почему нужный?) неизвестно откуда, из каких-то животных ее корней, вырастает в ней знание, что делать, как поступать, как вырвать руку из руки Карелова — милой, грубой руки его, что ему сказать.
— Теперь прощайте, спокойной ночи. Вот ваше пальто, вот шляпа.
Он берет и то, и другое под мышку, останавливается перед запертой дверью в Лизину комнату.
— Кто здесь живет?
— Здесь стоят вещи Лизи.
— Покажите.
Она отпирает дверь.
Холодно; пахнет нафталином, в потолке горит лампочка. Все укрыто чехлами, окно занавешено простыней. Большой кованый сундук с горбатой крышкой стоит посреди комнаты. Вера садится на него.
Карелов стоит перед ней какой-то ошеломленный, он не садится с ней рядом, он продолжает стоять, и вдруг говорит:
— Мне хочется быть счастливым. Мне хочется ни в чем не сомневаться, не стыдиться за то, что мне лучше всех на свете, не казниться за то, что другим плохо. Я хочу счастья. Чтобы в первых словах моей встречи с вами не было уже заключено будущее прощание. Я хочу не «покоя», не «воли», я хочу самого счастья.
Он медленно приблизился к ней, не с давешним порывом, а так спокойно, так просто, как будто все, с начала их знакомства, до самой их смерти, должно было быть банальным. Он сбросил на пол пальто и шляпу, положил обе руки ей на плечи — легко и свободно, не сжимая их, не тяготя ее объятием. Она подняла к его лицу свое лицо с полными чувства глазами и плотно закрытым ртом. Он медленно провел своим лицом по ее лицу. Он не целовал ее. Еще раз, еще. Потом, когда она ослабела в его руках, он перегнул ее назад, так, что голова ее свесилась и волосы коснулись пола, а тело неподвижно лежало поперек горбатого сундука. Будто забавляясь ее гибкостью, он нагнулся над ней и поцеловал ее. Она закрыла глаза. Он выпустил ее сейчас же, поднял с пола пальто и шляпу и, хлопнув входной дверью на весь спящий дом, побежал по лестнице. Она вскочила за ним, добежала до двери умолять его вернуться, если надо — крикнуть, обещать ему все, что он хочет, чего хочет она сама: не «покоя», не «воли» — счастья, самого настоящего, невозможного. Она добежала до двери и вдруг остановилась: ей опять, как тогда, показалось, что Карелов поднимается к ней по лестнице, и, она поняла, что его надо не пустить.
Почему она это понимала и что обо всем этом знала? Когда случилось с ней это обновление и уверенность, что «если мир обернется лицом» (своим совершенством), не надо брать его, не надо решать, как именно брать, а надо не даваться ему, устраняться от него, сопротивляться ровно столько, сколько нужно, чтобы еще лучше и крепче быть взятой им? Не кидаться, с голодными, дрожащими глазами, когда сердце разрывается от любви ко всем, но равнодушно смотреть мимо, молчать, притворяться — может быть, всего один единственный вечер, — но обороняться, вот чему научилась она, чего достигла маленьким своим опытом.
Она теперь стояла у окна. Небо было похоже на темную воду с облачно-лунными, неподвижными разводами. Она не знала, что сказать и кому сказать, и что сделать с собой. Мысль о том, что Карелов приехал, что он приехал к ней, что он любит ее, что она накануне неизвестного, чудовищного блаженства, которое следует непременно оттянуть, — и тем самым приблизить и упрочить, — мысль эта занимала сейчас всю ее, шевелилась в ней, почти ощутимо жила и трепетала. И все соединялось сейчас — непостижимо, неразложимо, все, что было в ней разъединено до сих пор: словно северные боги неслись навстречу южным богам все соединялось и падало друг в друга. Все шепоты, все неповторимые разговоры у Громовской биржи в шестнадцать лет, когда тряслась под ней земля, и дикое, голодное желание верности и доброты, которое ее бросило под ноги Александру Альбертовичу, и веселое, пустое счастье, которое иногда мелькало в объятиях Феди, и даже тот темный, новогодний час в Шуркиной квартире — всему этому теперь шло разрешение и утешение, все это находило себе место в ее любви к Карелову. И вместе со всем этим, — как никогда прежде, — воскресало сознание не уходящего, не ускользающего, а присутствующего и длящегося счастья.

"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.
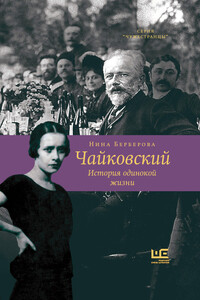
Нина Берберова, одна из самых известных писательниц и мемуаристок первой волны эмиграции, в 1950-х пишет беллетризованную биографию Петра Ильича Чайковского. Она не умалчивает о потаенной жизни композитора, но сохраняет такт и верность фактам. Берберова создает портрет живого человека, портрет без ласки. Вечная чужестранка, она рассказывает о русском композиторе так, будто никогда не покидала России…
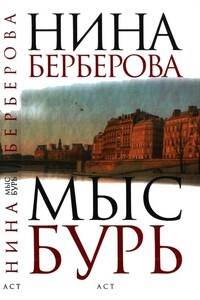
Героини романа Нины Берберовой «Мыс Бурь» — три сестры, девочками вывезенные из России во Францию. Старшая, Даша, добра ко всем и живет в гармонии с миром; средняя, Соня, умна и язвительна, она уверена: гармонии нет и быть не может, а красота давно никому не нужна; младшая, Зай, просто проживает веселую молодость… Вдали от родины, без семейных традиций, без веры, они пытаются устроить свою жизнь в Париже накануне Второй мировой войны.В книгу также вошло эссе «Набоков и его „Лолита“», опубликованное «по горячим следам», почти сразу после издания скандального романа.

Нина Берберова, автор знаменитой автобиографии «Курсив мой», летописец жизни русской эмиграции, и в прозе верна этой теме. Герои этой книги — а чаще героини — оказались в чужой стране как песчинки, влекомые ураганом. И бессловесная аккомпаниаторша известной певицы, и дочь петербургского чиновника, и недавняя гимназистка, и когда-то благополучная жена, а ныне вышивальщица «за 90 сантимов за час», — все они пытаются выстроить дом на бездомье…Рассказы написаны в 30-е — 50-е годы ХХ века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».