Без возврата (Негерой нашего времени) - [4]
Список этот мог продолжаться до бесконечности — Андрея Ивановича подавляло и раздражало решительно всё, что было нынешним делом рук человеческих, даже вдруг разразившаяся у них во дворе обрезка старых, уже заглядывающих в верхние этажи тополей. Но всё это было лишь уродливым и даже вовсе не оригинальным одеянием времени, придававшим ему сходство с вполне безобидной “фельетонной эпохой”, и раздражало оно Андрея Ивановича более всего потому, что под ним скрывалась стократ безобразная сущность.
Безобразность была и в том, что одни люди живут на вокзалах, а другие в особняках; и в том, что люди, живущие в особняках, нравственно во всяком случае не лучше тех, что живут на вокзалах; и в том, что все вокруг настолько обезумлены жаждой приобретательства, что на человека, не разбирающегося в марках телевизоров, автомобилей, радиотелефонов или стиральных машин, в свою очередь смотрят как на безумного; что повсюду открыто продаются книги о способах совокупления и видеокассеты со съемками совокупляющихся йэху; что люди, выбирая президента, исходят не из того, будет или нет новый президент убивать людей, а из того, поднимется или нет в цене водка и колбаса; что строю, установившемуся в государстве, вернее всего подходит название экономического фашизма, который есть уничтожение людей не физическими, а экономическими методами, и не по национальному, религиозному или какому иному признаку, а просто старых и слабых… Впрочем, так было лишь до кавказских войн: потом к экономическому добавился обыкновенный фашизм.
Русско-чеченские войны совершенно раздавили Андрея Ивановича; едва ли он до конца оправился. Не говоря о том, что он вообще признавал “право наций на самоопределение” (Ленин), в его глазах убивать людей за то, что они хотят жить отдельно, было чудовищно, было хуже, чем убивать из мести, корысти или ревности. Бить вдесятером одного, навалиться стапятидесятимиллионной страной на полумиллионный народ — было отвратительно, стыдно. Андрей Иванович не только всей душой стоял за чеченцев, истребляемых десятками тысяч без различия пола и возраста, но и испытывал мрачное удовлетворение при известиях о потерях российских войск — хотя и всеми силами старался его побороть, понимая, что чувствовать так — неправильно, нехорошо: мало того, что по его понятиям убить любого человека было нравственным преступлением (мера социальной защиты — смертная казнь убийц — была безнравственной технологией управления обществом в безнравственном мире; на мыслях Андрея Ивановича об этом мы останавливаться не будем), так еще и солдаты, которые убивали и умирали на этой войне, были темными, изуродованными или сломленными бесчеловечной военной машиной людьми, в большинстве своем — безмысленными девятнадцатилетними мальчишками, личинками человека… Но сердцу не прикажешь — и когда в телевизоре говорящие головы сообщали, что в Чечне уничтожено столько-то боевиков, Андрей Иванович мстительно осведомлялся: “А сколько уничтожено федералов?”
После расстрела парламента и русско-чеченских войн Андрей Иванович окончательно утвердился в безнадежной мысли о том, что живет в преступной стране (он не обольщался и так называемым цивилизованным миром — но что ему мир?), и в нравственном отношении сравнивал нынешнюю Россию, ее власть и народ, с Советским Союзом Сталина и Германией Гитлера, не находя в этом никакого преувеличения. Качественная, принципиальная разница — как между векторной и скалярной величиной — существует между убийством одного (совершенным в состоянии опьянения или исступления) и хладнокровным убийством десяти человек; между убийством же десятков тысяч и миллионов разница только количественная, технологическая, то есть нет никакой: кто способен украсть сто рублей, украдет и тысячу, кто может убить сто тысяч, тот с теми же чувствами (или бесчувствием) убьет миллион — и не убивает лишь потому, что нет возможности или нужды. Убивала, конечно, государственная власть и ее пособники, — а что же народ? Раньше народ боялся и молчал, сейчас он не боится — и тоже молчит. Каждый день по телевизору показывали, как люди убивают людей, — бомбежки, обстрелы, развалины, трупы; каждый день десятки газет и журналов старались привести как можно больше свидетельств мерзости человечьей; о том, что происходит в Чечне, люди знали больше, чем о том, что происходит в соседнем подъезде, — и вот после всего этого, видя и зная всё это, на антивоенный митинг — в выходной день, в центре Москвы — из восьми миллионов пришло полторы тысячи человек: в процентном соотношении это было меньше, чем солей в водопроводной воде! И дело было не только в равнодушии народа — во время 2-й войны народ уже не безмолвствовал. Электрик, починявший у Андрея Ивановича проводку, сказал: “А по мне, так чтобы этих чернож…х и вовсе не было”. — “А дети тут при чем?” — волнуясь, спросил Андрей Иванович. — “А дети вырастут”, — спокойно ответил электрик. Почти по св. Суворову: “Бей и маленького: подрастет — неприятель будет”…
(Тут кстати сказать, что из-за своего глубокого разочарования в народе Андрей Иванович не имел никаких политических пристрастий. Теоретически, в идеале, он был сторонником демократического социализма, но, понимая, что при отсутствии доброй воли все пути ведут в ад, в политическом смысле махнул на Россию рукой: куда ни кинь, всюду клин, — и либо вовсе не ходил голосовать, либо голосовал за более или менее приличных проигрывающих. Кроме того, даже формально взгляды ни одной политической партии не совпадали со взглядами Андрея Ивановича. Подобно тому, как у птиц есть крылья и перья, у млекопитающих — зубы и шерсть, у змей — нет ног и есть чешуя — и признаки эти пересекаться не могут: животное либо птица, либо змея, — так и взгляды приверженцев различных политических движений в России за последние годы отлились в устойчивые клише, определяющими (хотя и разношерстными) признаками которых были: во-первых, конечно, отношение к частной собственности (у демократии как образа правления явных противников не было), — дальше в любой последовательности: отношение к сербам, которых западные союзники разбомбили за притеснение албанцев, отношение к чеченской войне и отношение к олигарху Чубайсу. Левые были против капитализма, за сербов, за войну в Чечне и против Чубайса; умеренные были за капитализм, болотисто и за сербов, и за албанцев, против войны в Чечне и против Чубайса; правые были за капитализм, против сербов, за войну в Чечне и за Чубайса; Андрей Иванович был против капитализма, против сербов, против войны в Чечне и против Чубайса… Если добавить к этому, что Андрей Иванович был также против церкви и против целостности России — в смысле насильственного удержания кавказских и прикаспийских колоний (подобных взглядов, ни в каком сочетании, не было вообще ни у одной политической партии), то он оказывался в полном политическом и нравственном одиночестве: в стапятидесятимиллионной толпе он чувствовал себя как в пустыне…)
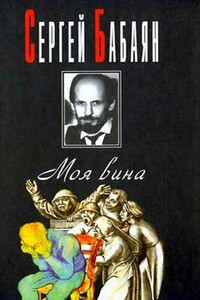
«Тема сельской свадьбы достаточно традиционна, сюжетный ход частично подсказан популярной строчкой Высоцкого „затем поймали жениха и долго били“, а все равно при чтении остается впечатление и эстетической, и психологической новизны и свежести. Здесь яркая, многоликая (а присмотришься – так все на одно лицо) деревенская свадьба предстает как какая-то гигантская стихийная сила, как один буйный живой организм. И все же в этих „краснолицых“ (от пьянства) есть свое очарование, и автор пишет о них с тщательно скрываемой, но любовью.
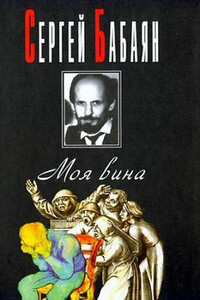
«Моя вина» – сборник «малой прозы» о наших современниках. Её жанр автор определяет как «сентиментальные повести и рассказы, написанные для людей, не утративших сердца в наше бессердечное время».
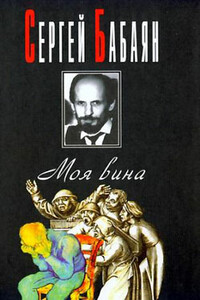
«Моя вина» – сборник «малой прозы» о наших современниках. Её жанр автор определяет как «сентиментальные повести и рассказы, написанные для людей, не утративших сердца в наше бессердечное время».

Сергей БАБАЯН — родился в 1958 г. в Москве. Окончил Московский авиационный институт. Писать начал в 1987 г. Автор романов “Господа офицеры” (1994), “Ротмистр Неженцев” (1995), повестей “Сто семьдесят третий”, “Крымская осень”, “Мамаево побоище”, “Канон отца Михаила”, “Кружка пива” (“Континент” №№ 85, 87, 92, 101, 104), сборника прозы “Моя вина”(1996). За повесть “Без возврата (Негерой нашего времени)”, напечатанную в “Континенте” (№ 108), удостоен в 2002 г. премии имени Ивана Петровича Белкина (“Повести Белкина”), которая присуждается за лучшую русскую повесть года.
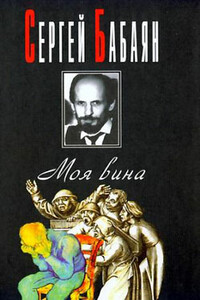
«Моя вина» – сборник «малой прозы» о наших современниках. Её жанр автор определяет как «сентиментальные повести и рассказы, написанные для людей, не утративших сердца в наше бессердечное время».
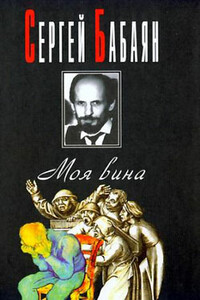
«Моя вина» – сборник «малой прозы» о наших современниках. Её жанр автор определяет как «сентиментальные повести и рассказы, написанные для людей, не утративших сердца в наше бессердечное время».
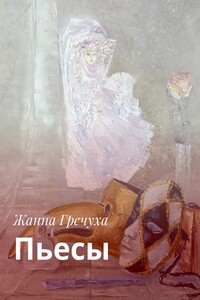
Все шесть пьес книги задуманы как феерии и фантазии. Действие пьес происходит в наши дни. Одноактные пьесы предлагаются для антрепризы.
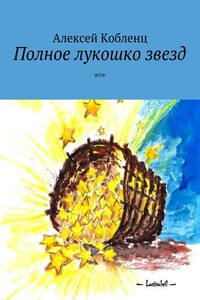
Я набираю полное лукошко звезд. До самого рассвета я любуюсь ими, поминутно трогая руками, упиваясь их теплом и красотою комнаты, полностью освещаемой моим сиюминутным урожаем. На рассвете они исчезают. Так я засыпаю, не успев ни с кем поделиться тем, что для меня дороже и милее всего на свете.
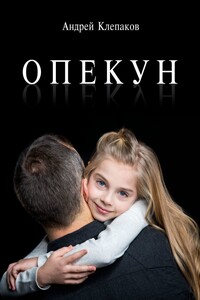
Дядя, после смерти матери забравший маленькую племянницу к себе, или родной отец, бросивший семью несколько лет назад. С кем захочет остаться ребенок? Трагическая история детской любви.
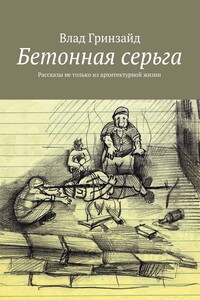
Рассказы, написанные за последние 18 лет, об архитектурной, околоархитектурной и просто жизни. Иллюстрации были сделаны без отрыва от учебного процесса, то есть на лекциях.

Что делать монаху, когда он вдруг осознал, что Бог Христа не мог создать весь ужас земного падшего мира вокруг? Что делать смертельно больной женщине, когда она вдруг обнаружила, что муж врал и изменял ей всю жизнь? Что делать журналистке заблокированного генпрокуратурой оппозиционного сайта, когда ей нужна срочная исповедь, а священники вокруг одержимы крымнашем? Книга о людях, которые ищут Бога.
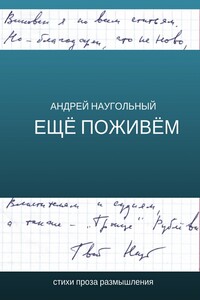
Книга Андрея Наугольного включает в себя прозу, стихи, эссе — как опубликованные при жизни автора, так и неизданные. Не претендуя на полноту охвата творческого наследия автора, книга, тем не менее, позволяет в полной мере оценить силу дарования поэта, прозаика, мыслителя, критика, нашего друга и собеседника — Андрея Наугольного. Книга издана при поддержке ВО Союза российских писателей. Благодарим за помощь А. Дудкина, Н. Писарчик, Г. Щекину. В книге использованы фото из архива Л. Новолодской.