Без возврата (Негерой нашего времени) - [2]
Впрочем, материальные лишения (да и можно ли было, черт побери, назвать это “лишениями”?!) и вполовину не так угнетали его, как страдания душевные, нравственные. Во-первых, он испытывал чувство вины перед Настей и — хотя и в значительно меньшей степени — перед Ларисой. Вина была в том, что из-за его науки, которую он не хочет — но и не может, в горькую искреннюю минуту иногда думал он, — оставить (что он умеет делать? куда пойдет?…), они если и не плохо, то хуже многих других живут. И здесь, конечно, его не так мучило то, что он просто приносит им мало денег, как то, что он (“наверное”, — успокаивал Андрей Иванович себя, боясь посчитать, потому что в глубине души был в этом уверен) отнимает у них часть денег, которые зарабатывает жена: ну как может взрослый мужчина прожить на шестьсот рублей?…
Во-вторых, хотя теоретически Андрей Иванович всегда считал науку занятием самоценным (и в этом смысле ученый представлялся ему как бы служителем культа), раньше его ни на миг не покидала уверенность в том, что его труд нужен людям — что он работает для людей. Андрей Иванович был убежден, что всем ходом своей истории человечество обязано исключительно научному прогрессу: древние люди были в той же степени злы и добры, как и нынешние, и современная сытая жизнь белого человечества и его относительно разумные государственные устройства есть результат не просветления душ, а повышения производительности труда и усовершенствования машины управления обществом: рушится машина — и люди одним прыжком возвращаются в первобытное состояние и начинается bellum omnium contra omnes. Тот же Маркс, думал Андрей Иванович, ошибся в одном — в абсолютном (в относительном он не ошибся) обнищании рабочего класса. Капитализм был спасен научно-техническим прогрессом, но его размаха не мог предвидеть не только трезвомыслящий Маркс, но и Жюль Верн с Уэллсом.
И как это ни было наивно, но уверенность Андрея Ивановича в том, что он нужен людям, в значительной мере питал дореформенный оклад старшего научного сотрудника в двести пятьдесят старых рублей — или сто двадцать пять килограммов мяса (пересчитывать всё на мясо превратилось у него в навязчивую идею). Но так было при диктатуре, когда потребности общества определялись мало зависящей от общества группой людей; сейчас же, в условиях рынка, при свободно установившемся и потому объективном соотношении спроса и предложения, оказалось, что то положение, при котором старший научный сотрудник зарабатывал сто двадцать пять килограммов мяса, было искусственным, ложным, что красная цена ему, по мнению устанавливающего цены на рынке покупающего и продающего общества, даже не десять килограммов, которые он получает сейчас (эта цифра тоже была искусственной, взятой государством из суммы, которую оно было в состоянии вывести из-под действия железного закона спроса и предложения: общество не дало бы ни копейки), — а нуль, абсолютный нуль, — что для общества, по мнению, пусть молчаливому, общества, он, Андрей Иванович, есть никому не нужная, бесполезная тварь, и исчезни завтра он и ему подобные — общество этого даже не заметит. Он никому не нужен — а вот биржевой игрок, взвинчивающий цены посредник, продажный политик, получающие (“зарабатывающие”, ядовито думал Андрей Иванович) в десятки, в сотни раз больше его, — они могут быть сколько угодно дурными и вредными для экономики и общественной нравственности людьми, но они — нужны! более того, даже необходимы — уже по одному факту своего существования на живущем по непреложным, как термодинамические начала, законам, всё продающем и всё покупающем, всех расставляющем по стоимостным местам проклятом свободном рынке: рынок, как часть природы, не терпит ни избыточности, ни пустоты…
Андрей Иванович мог сколько угодно убеждать себя в том, что народ ничего не понимает, что за пределами житейского обихода народ, извините, дурак, что в подвергнутом жестокому осмеянию лозунге: “Железной рукой загоним человечество в светлое будущее!” — нет ничего ни глупого, ни смешного, потому что не только светлое, но и вообще будущее для неразумного и безнравственного человечества возможно только под железной рукой (а можно и так: пятой): просто руки с потребной для этого материальной и нравственной силой не может быть на земле, она может быть только не от мира сего — это Бог, — а его или нет, или он равнодушен к делам человеческим… Но все эти рассуждения и убеждения Андрею Ивановичу нимало не помогали: народ может быть глупый, умный или середка-наполовинку, но он, Андрей Иванович, не то что народу, не то что какой-то части народа, а вообще никому не нужен. Сантехник Володя нужен нескольким сотням жильцов, институтская уборщица Валя — нескольким десяткам сотрудников, старуха с четвертого этажа, сидящая с соседским ребенком, — просто одной семье, а он — никому…
Наконец, мысль о том, что окружающие — которые раньше, казалось ему, видели в нем пусть не небожителя, но достойного, незаурядного человека — сейчас смотрят на него хорошо если с недоумением, а не с жалостью и насмешкой, была ему нестерпима. Он был не жаден и не завистлив в душе по воспитанию и натуре, но бедность вынуждала его быть жадным в поступках (не давать взаймы, избегать складчин — иначе как бы он смог прожить?), а самолюбие породило рассудочную — идущую от разума, а не от сердца — завистливость. Он завидовал не тому, что у его однокашника Нелюбова особняк, — Андрею Ивановичу не нужен был особняк, ему нужен был кабинет, — он даже не завидовал (ему не хотелось называть это завистью), — ему было просто горько сознавать, что вечный троечник, “переползала” Нелюбов, стараниями райкомовского отца с трудом закончивший факультет, может заработать на особняк, а он, почти красный дипломник Стрельцов — нет, — и все, кто его знает, если не смеются над этим, то удивляются этому. Из-за подобных отравляющих его сознание мыслей и чувств с ним иногда случались прямо-таки постыдные вещи. Недавно, поджидая Настю в школьном дворе, он разговорился с какой-то девочкой. Девочка — на вид младше Насти, лет десяти — спросила: “А у вас сколько машин? У меня две — одна такая длинная, блестящая, а другая с кузовом… грузовик”, — и Андрей Иванович сухо — десятилетнему ребенку! — ответил: “Это не у тебя две машины, а у твоего папы”. Позже он с горечью подумал: “До чего я дошел…”
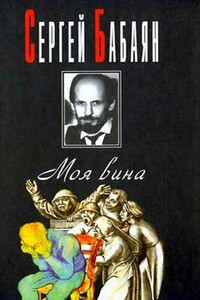
«Тема сельской свадьбы достаточно традиционна, сюжетный ход частично подсказан популярной строчкой Высоцкого „затем поймали жениха и долго били“, а все равно при чтении остается впечатление и эстетической, и психологической новизны и свежести. Здесь яркая, многоликая (а присмотришься – так все на одно лицо) деревенская свадьба предстает как какая-то гигантская стихийная сила, как один буйный живой организм. И все же в этих „краснолицых“ (от пьянства) есть свое очарование, и автор пишет о них с тщательно скрываемой, но любовью.
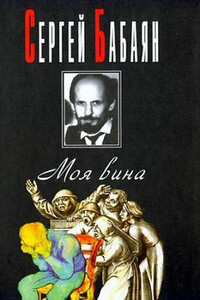
«Моя вина» – сборник «малой прозы» о наших современниках. Её жанр автор определяет как «сентиментальные повести и рассказы, написанные для людей, не утративших сердца в наше бессердечное время».
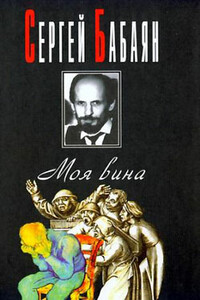
«Моя вина» – сборник «малой прозы» о наших современниках. Её жанр автор определяет как «сентиментальные повести и рассказы, написанные для людей, не утративших сердца в наше бессердечное время».

Сергей БАБАЯН — родился в 1958 г. в Москве. Окончил Московский авиационный институт. Писать начал в 1987 г. Автор романов “Господа офицеры” (1994), “Ротмистр Неженцев” (1995), повестей “Сто семьдесят третий”, “Крымская осень”, “Мамаево побоище”, “Канон отца Михаила”, “Кружка пива” (“Континент” №№ 85, 87, 92, 101, 104), сборника прозы “Моя вина”(1996). За повесть “Без возврата (Негерой нашего времени)”, напечатанную в “Континенте” (№ 108), удостоен в 2002 г. премии имени Ивана Петровича Белкина (“Повести Белкина”), которая присуждается за лучшую русскую повесть года.
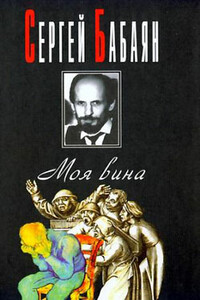
«Моя вина» – сборник «малой прозы» о наших современниках. Её жанр автор определяет как «сентиментальные повести и рассказы, написанные для людей, не утративших сердца в наше бессердечное время».
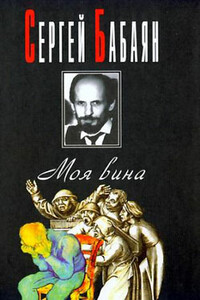
«Моя вина» – сборник «малой прозы» о наших современниках. Её жанр автор определяет как «сентиментальные повести и рассказы, написанные для людей, не утративших сердца в наше бессердечное время».
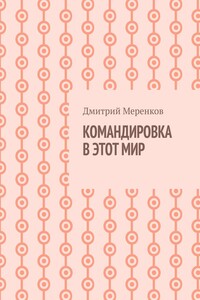
Мы приходим в этот мир ниоткуда и уходим в никуда. Командировка. В промежутке пытаемся выполнить командировочное задание: понять мир и поделиться знанием с другими. Познавая мир, люди смогут сделать его лучше. О таких людях книги Д. Меренкова, их жизни в разных странах, природе и особенностях этих стран. Ироничность повествования делает книги нескучными, а обилие приключений — увлекательными. Автор описывает реальные события, переживая их заново. Этими переживаниями делится с читателем.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.
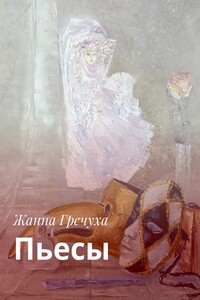
Все шесть пьес книги задуманы как феерии и фантазии. Действие пьес происходит в наши дни. Одноактные пьесы предлагаются для антрепризы.
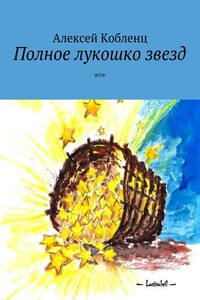
Я набираю полное лукошко звезд. До самого рассвета я любуюсь ими, поминутно трогая руками, упиваясь их теплом и красотою комнаты, полностью освещаемой моим сиюминутным урожаем. На рассвете они исчезают. Так я засыпаю, не успев ни с кем поделиться тем, что для меня дороже и милее всего на свете.
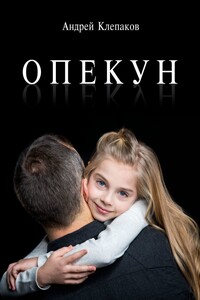
Дядя, после смерти матери забравший маленькую племянницу к себе, или родной отец, бросивший семью несколько лет назад. С кем захочет остаться ребенок? Трагическая история детской любви.
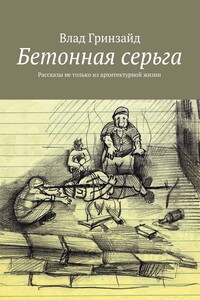
Рассказы, написанные за последние 18 лет, об архитектурной, околоархитектурной и просто жизни. Иллюстрации были сделаны без отрыва от учебного процесса, то есть на лекциях.