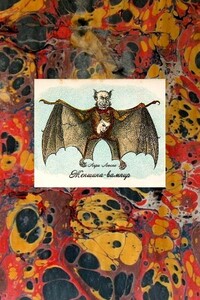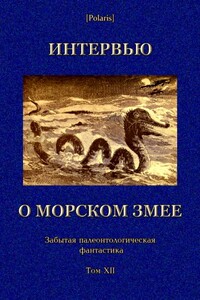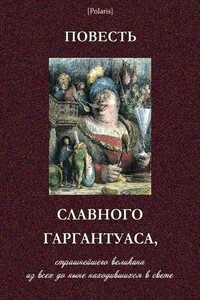В лазарете больных не было.
Аким Павлыч вежливо пригласил Лушку:
— Седайте пожалуйста, мадама!
И указывал на сенник, валявшийся на полу.
— На вот тебе, да это пошто на полу-то? — спросила, смеясь, Лушка.
— А по то, шо колы, значит, у градусы превзойдем, шоб не высоко падать було, — ответил, галантно раскланявшись перед «мадамой», Аким Павлыч.
— А на што сенник-то?
— Ха, ха, ха! Мы это по пословице делаем. Потому, значит, знаем, где упадем и на это место не токмо соломку — сенник подстилаем. А то, ненароком, сатромонтальто с синавицей произойти может.
Лушка слушала умные слова интересного кавалера, млела от удовольствия и хихикала.
— Хи, хи, хи! И скажет же, черт ефиопский.
Потом Аким Павлыч и Лушка, обнявшись, сидели на сеннике.
Аким Павлыч разводил гармонию и пел «Лучинушку».
Лушка слушала молча, но в местах, особенно ей нравившихся, не могла утерпеть и подтягивала фальшивым и визгливым голосом.
В таких случаях Аким Павлыч осаживал ее:
— Не горлань!
Время от времени Аким Павлыч брал бутылку, наливал две рюмки водки и потчевал:
— Ну-ко, Лушечка, трохы дребалызнем.
И закусывали принесенными Лушкой господскими закусками.
Быстро пьянели.
Вдруг случилось что-то странное.
Что-то грохнуло за окном.
Одновременно послышался звон разбитых оконных стекол, бутылка, которую держал в руке Аким Павлыч, разлетелась вдребезги и осколком от нее сильно ранило Лушку в щеку.
Лушка упала на сенник и завизжала, как порезанная свинья, а Аким Павлыч с растопыренными пальцами тупо уставился перед собой, стараясь сообразить, что такое случилось.
* * *
Ахъямка возвратился с охоты поздно.
Он долго гонялся за глухарями, которые точно дразнили его, не допуская на выстрел. Охотник вспотел и теперь немного зяб.
За спиной Ахъямки болтался огромный сизогрудый глухарь, а у пояса пары две рябчиков.
Но Ахъямка не обращал внимания на усталость и знатный, собравшийся к вечеру морозец, пронизывающий плохонький армячишко и колющий, как иглами, тело.
Он был настроен по-прежнему весело.
Ему думалось, что вот он придет поздно ночью на кухню, тихонько сложит на стол добычу, деловито подойдет к Лушкиной кровати; но сначала Лушку будить не станет, а будет гладить ее и целовать. Потом он станет потихоньку будить ее, но, при этом, так ловко поведет дело, что Лушка сама полюбит его.
И при одной мысли об этом Ахъямке казалось, что мороз еще более крепчает и лезет к нему за спину.
Сосны, завороженные луной, спокойно смотрели на быстро мчавшегося у их подножья маленького черноглазого и черноусого человека.
Путы лыж слегка поскрипывали, каек взрывал на склонах снег, и Ахъямка летел, точно на крыльях, подавшись слегка сгорбленным корпусом вперед и с каждым шагом подкатываясь на упругих лыжах.
Но когда Ахъямка, крадучись, точно вор, отворил дверь на кухню, волнуясь, положил добычу на стол и подошел к Лушкиной кровати, Лушки на ней не оказалось.
Ахъямку точно варом обдало.
Он пошарил еще раз по кровати, даже пощупал под подушкой, точно Лушка вдруг сделалась не больше коробки со спичками, потом чиркнул спичку и осмотрел кухню.
Лушки нигде не было.
Шум зажигаемой спички и шорох на кровати разбудил старика Осипа.
Он, зевая, обратился к Ахьямке:
— Ты че, Ахъямка, птису штоль принес?
Ахъямка смутился и залепетал:
— Лушка говорил, рябчика стрелять надо — вот притаскал.
— Положи тамотка на стол. Ужо Лушка придет — скажу ей.
Но Ахьямке не хотелось уходить. Он все ждал, что придет Лушка.
— Я еще глухарь притаскал тут.
— Ну ладно, ужо скажу ей. Иди теперича, спи.
Ахъямка, унылый и разочарованный, вышел из кухни.
Ему очень хотелось спросить у Осипа, где Лушка, но какое-то чувство, похожее на обиду и гордость, не позволило ему сделать этого вопроса.
Как-то невольно, не отдавая себе отчета, Ахъямка двинулся к лазарету.
Попробовал открыть дверь, но она не поддалась.
— Ишь хрумой заис, язби ева, — проворчал Ахъямка.
Потом надел лыжи и подошел к окну комнаты фельдшера.
И через это окно, плохо завешенное старой дырявой скатертью, он увидал, как счастливый соперник целовал и мял в своих объятиях Лушку и как они весело пили водку и ели рябчиков, настрелянных Ахъямкой.
Ахъямка вдруг вспыхнул злобой.
Особенно обидным показалось ему, что ненавистный «хрумой заис» ест его рябчиков.
И обычно тихий и добродушный инородец сразу превратился в зверя.
Не сознавая, что делает, Ахъямка вскинул винтовку и выстрелил.
Но отчаянный вопль Лушки поразил его.
Ахъямка испугался.
— Уй, убил аднака, язби ева! — невольно вскрикнул он.
И через минуту был уже далеко от прииска, углубляясь на своих лыжах в лес, подгоняемый ужасной мыслью, бормоча:
— Убил вить, убил депку!
Ему мерещилась окровавленная Лушка, урядник, вяжущий ему руки, тюрьма в городе, которую он давно когда-то видел издали, и боязнь потерять казавшуюся теперь такой дорогой свободу гнала Ахъямку все вперед и вперед.
Луна высоко катилась в небе.
Таинственные светотени ее придавали лесу жуткий вид. Ахъямке казалось, что кто-то бежит за ним страшный и крадется сзади и забегает вперед, прячась за стволы деревьев и высовывает из-за них длинные и сухие руки, похожие на огромные вороньи лапы, и хватает ими за одежду.