Бал на похоронах - [45]
Но он категорически отказался. Не хотел. Мы часто рассуждали с ним об этих вещах, исполненных света и при этом всегда остающихся для нас в тени. Однажды вечером, возможно, это было на Корсике или на острове Кекова, у турецкого побережья, который он очень любил, у стен византийского дворца, но точно на корабле, мне удалось поколебать его. Я передал Ромену высказывание одного раввина, которое меня поразило, оно поразило и его: «Важнее всего на свете все-таки Бог: есть Он или Его нет…»
— Вот оно как! — сказал тогда Ромен.
— Правда ведь? — поддел я его.
Мы долго молчали. Звезды, сиявшие над нами, сами собой располагали к тишине. И вообще, мне кажется, что лучшие наши с Роменом времена мы провели в молчании. Я припоминаю, что после долгой паузы я сказал:
— Возможно, самым гениальным в Божественном замысле было создание такого реального мира, который допускает сомнения в своей реальности.
Мы опять надолго замолчали. Через четверть часа Ромен обернулся ко мне:
— Ну, я пошел спать. Спокойной ночи.
Он направился к лестнице, ведущей к койкам. Затем вернулся ко мне и бросил:
— Ты меня так просто не возьмешь.
Он не был, однако, равнодушен к простому величию веры и к тому священному трепету, который испытывают верующие, хотя сам был далек от них перед религиозными обрядами, идущими из глубины времен. Я вспоминаю о нашем путешествии в Сирию: не так давно мы с ним посетили те места, в которых он провел несколько месяцев перед отправкой в СССР. В Дамаске мы посетили мечеть Омейадов и могилу Саладина; побывали в Пальмире… Затем из Алеппо мы отправились в Сен-Симеон — туда, где полвека назад он получил известие о смерти Молли. Мы обошли развалины базилики и залюбовались величественным куполом, увенчивающим одну из самых древних христианских абсид. Ромен был взволнован нахлынувшими на него воспоминаниями; он молча сидел на обломке поверженной колонны… Я удалился на несколько шагов и в тишине наблюдал, как солнце опускалось за холм.
Внезапно в эту тишину ворвалась шумная группа возбужденных итальянцев. Среди них было несколько девушек, и весь этот крикливый мирок бурлил, нарушая царившую здесь атмосферу и, казалось, не утруждал себя мыслями о потоках христианской крови, обагрившей некогда эти камни. Кто-то из мужчин достал мяч, и некоторые принялись играть в футбол на развалинах храма. Кое-кто даже пробовал сделать несколько танцевальных па. Многие растянулись на земле, отдыхая после проделанного пути. И все очень громко смеялись.
А затем произошло нечто удивительное. Итальянцы встали, достали из чемоданчиков одежды, похожие на туники, церковные ризы. Они надели их, молча собрались вокруг одного из них, седовласого человека, и… запели. Не сразу до нас с Роменом дошло, что все они — священники и пришли сюда, чтобы пропеть торжественную мессу у стен базилики, воздвигнутой в память Симеона Столпника. Они пели с таким воодушевлением и с такой благод арностью, что слезы навернулись нам на глаза. Это было потрясающее зрелище: руины храма, священный холм, забытый в стороне мяч, синее небо, женщины, коленопреклоненные в молитве, и вдохновенное пение «Sanctus» в тишине руин. Мы пели вместе с ними.
— Бывают моменты в жизни, — сказал мне тогда Ромен, — когда надо защищать свои Фермопилы.
Ромен любил музыку больше всего на свете. Он долгое время посещал все концерты Моцарта, которого очень высоко ценил и знал, кажется, всего. Он мог слушать его целый день у себя дома; он ездил в Зальцбург и Экс-ан-Прованс; он был знаком с уймой специалистов — многие из них сейчас присутствовали на кладбище — и даже спорил с ними. Именно отправляясь в Зальцбург из Цюриха или Милана, чтобы послушать «Женитьбу Фигаро» или «Cosi fan tutte», он и познакомился на дороге с Альбеном Цвингли. В последние годы жизни, впрочем, он проявил некоторую непоследовательность — увлекся Бахом и разве что не клялся его именем. Я несколько раз заставал его слушающим в наушниках кантаты № 19 и № 20 или «Кофейную кантату». Он говорил, что ему больше ничего не нужно для счастья и одного Баха достаточно, чтобы заменить все, что он любил в жизни. Я процитировал ему — с намеком — слова Сиорана: «Бог очень многим обязан Баху» — и он был восхищен.
Я воспользовался этим, чтобы «протолкнуть» свою идею:
— Ну, если Бах — кто-то вроде доверенного лица Господа, который вечно отсутствует, и если он может заменить собой все остальное в жизни… может быть, стоит сыграть что-нибудь из него в тот день, когда ты или я…
Ромен думал недолго:
— Нет, — отрезал он. — Это будет выглядеть позерством — тебе не кажется? Для себя во всяком случае я выбираю ничего.
Настаивать было бессмысленно. Он не раз говорил: ни цветов, ни музыки. Ни даже имени на могиле.
Я спрашиваю себя, не вызваны ли страницы, которые я пишу в память о Ромене, именно этим — отсутствием на его похоронах какого бы то ни было обряда, пения, литургического слова. Это воздаяние: тщеславие за тщеславие, пустяк за пустяк; вместо обязательных молитв — разрозненные воспоминания и вместо могильного памятника — надгробие в жанре романа. Он не хотел ничего, а я пишу о нем…
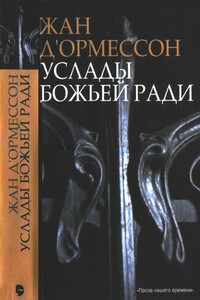
Жан Лефевр д’Ормессон (р. 1922) — великолепный французский писатель, член Французской академии, доктор философии. Классик XX века. Его произведения вошли в анналы мировой литературы.В романе «Услады Божьей ради», впервые переведенном на русский язык, автор с мягкой иронией рассказывает историю своей знаменитой аристократической семьи, об их многовековых семейных традициях, представлениях о чести и любви, столкновениях с новой реальностью.

«Ашантийская куколка» — второй роман камерунского писателя. Написанный легко и непринужденно, в свойственной Бебею слегка иронической тональности, этот роман лишь внешне представляет собой незатейливую любовную историю Эдны, внучки рыночной торговки, и молодого чиновника Спио. Писателю удалось показать становление новой африканской женщины, ее роль в общественной жизни.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.