Бабушка - [77]
Я никак не мог дождаться, когда бабушка «сдаст» меня Таисьи Павловне и уйдет. Наконец-то, наконец… Боязно мне, но я подхожу к девочке и говорю как можно суровей:
— Ты долго еще на качелях будешь кататься? Я тоже хочу!
Она пролетает мимо меня, ее белая шапочка с помпоном и золотистые косички едва не касаются моего лица, и девочка говорит мечтательно:
— Еще часик!
— Целый час еще?! — реву я угрожающе. — Ты дура, что ли?
Я уже знаю, что на «дуру» девочки не обижаются, привыкли уж, как и мы, мальчишки, не обижались на «дурака». Это обычное слово, нормальное.
— Не час, а часик. Один маленький часик, — отвечает девочка сладким голоском.
— Хватит воображать! Не прикобыливайся!
Это излюбленное бабушкино «не прикобыливайся», как мне кажется, сейчас подходит в самый раз.
Девочка с интересом скашивает на меня свои серенькие глазки, говорит, пролетая мимо:
— У меня дома никто матом не ругается. Ни папа, ни мама, ни бабушка. А у тебя что, ругаются?
— Нет, — говорю я.
— А почему же ты ругаешься?
— По кочану! — И выдаю без перехода, сразу, на одном запале: — Давай водиться! Согласна? Я больше не буду ругаться.
— Я подумаю, — отвечает эта воображала.
Я иду к мальчишкам.
Толстый мальчик по прозвищу Мотя, потому что у него фамилия Матвеев, лениво ковыряется в песочнице, рядом с ним еще пара дошколят из нашей подготовительной группы. Мотя — самый сильный мальчик из всех.
— Ты что, хочешь водиться с этой новенькой? — спрашивает меня Мотя.
— Не-а, не хочу, — отвечаю я. — Зачем мне с ней водиться? Жадина-говядина! Да еще воображает!
Мне очень хочется, чтобы больше никто не вздумал водиться с этой девочкой.
— Ее Ира зовут. Иванова, — говорит Мотя. — Ее папа привел, и она ни с кем водиться не хочет. Даже с бабами.
Ах вот как, папа привел! Тогда поня-а-тно, почему до сих пор никто не прогнал эту девочку с качелей, почему она спокойно ест свои конфеты и у нее их не отнимают.
— Ну чего, пошли в футбол играть? — предлагает Мотя.
Мы идем к маленькой утоптанной площадке с лужицей после дождя, возле которой лавочка. На лавочке лежит мятый и сдутый резиновый мяч.
— Чур, я — Копейкин! — говорю я.
— Не-а, я Копейкин, — отвечает Мотя.
— Тогда я не буду играть, раз ты Копейкин. Ты не Копейкин.
Я не больно-то расстраиваюсь, потому что совсем не хочу бегать за этим сдутым мячом, еле переваливающимся по мокрой земле. И вообще, мы у себя на Курлы-Мурлы чаще играли в хоккей, чем в футбол. Потому что соседские женщины, увидев нас с мячом, тут же выскакивали на улицу и кричали:
— А ну, ступайте в другое место в свой футбол играть! Стекла побьете, кто потом вставлять будет?
А еще хоккей было интересней смотреть по телевизору, чаще забивали голы, и даже слушать по радио: «Майцев, бросок — гол!» Папа учил меня: «Не Майцев, а Мальцев». А когда я по радио слушал футбол, то голы были редко. Кроме одного матча. Тогда, помню, голос в бабушкином черном приемнике, затянутом матерчатой занавесочкой, несколько раз повторил слово «финал», и в самом конце игры били «финальти»: «Удар по воротам — гол!» И так несколько раз подряд.
Потом Пашка Князев меня высмеял перед всеми мальчишками, сказал, не «финальти», а «пенальти», и я, конечно, с ним тут же согласился, ведь футболисты «пинают» мяч изо всей силы, дают ему «пендель». Значит, пенальти. Пашка очень умный.
В хоккей мы играли маленьким, жестким резиновым мячиком и ни разу не разбили ни одного окна. Клюшку мне сделал папа, потому что в магазине дешевые клюшки купить было трудно, их сразу разбирали, ведь все мальчики играли в хоккей, как Мальцев. У папы, как все вокруг говорили, хорошо получилась эта клюшка — он сколотил ее из свежих, желтеньких дощечек.
— Нравится? — все спрашивал меня папа.
— Нравится, — говорил я.
Я никогда не мог никому ответить, что нет, мол, не нравится, а когда я однажды собрался так ответить бабушке и уже открыл было рот, вдруг почувствовал, как во мне все сжалось от жалости, и проговорил — да, нравится. И я думал, что слова «жалость» и «сжалось» всегда стоят рядышком, они друг без дружки не бывают.
Как-то вечером, перед каким-то праздником, мы зашли в «Детский мир», рядом с которым был до революции собакинский одежный магазин, и бабушка долго выбирала мне подарок. Было много народу, я очень хотел поскорее уйти. Но терпел. Бабушка с ласковой, светящейся улыбкой разглядывала две глиняные белые фигурки, расписанные красками. Это были танцующие парень и девушка, молдаване кажется. Ей эти фигурки так понравились, что она никак не могла отойти от прилавка, все повторяла:
— Ну какие же вы хорошие! А тебе они нравятся, Санёга?
— Да, — выдавливал я через силу.
Мне часто приходилось «выдавливать» это трудное «да».
— Значит, хороши они тебе? — радовалась бабушка.
— Хороши, — отвечал я, чуть не плача, потому что хотел игрушечный зеленый пистолет с таинственным словом на боку: «Ржев».
Бабушка купила эти фигурки танцоров, они стоили дорого, намного больше, чем пистолет, и я нес домой этот девчоночий подарок, который «страмотно» будет показать Пашке и Леньке Князевым. Зато бабушка была очень довольна, ведь она поверила, что мне нравятся эти глиняные куколки.
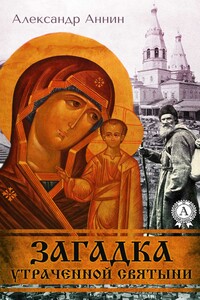
Мало кто знает, что следствие по делу о похищении в 1904 году величайшей реликвии Руси – Казанской иконы Божией Матери – не закрыто по сей день. Оно «втихомолку» продолжается, причем не только в нашей стране, но также в Европе и США. Есть ряд авторитетных мнений, что чудотворный образ цел и невредим. В предлагаемом документальном расследовании перед читателем предстанет полная картина «кражи века».

Пособие для начинающих кладоискателей. Прочитав эту небольшую и увлекательную книгу, вы приобретете все необходимые познания для успешных поисков древних сокровищ.

Георгий Степанович Жженов долгие десятилетия искал того негодяя, который своим доносом отправил его в сталинские лагеря. И – нашел… «Лучше бы я не знал, кто это был!» – в сердцах сказал мне Жженов незадолго до смерти.
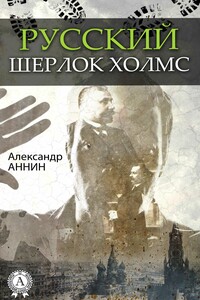
Загадочная жизнь и гениальные расследования Аркадия Францевича Кошко, величайшего сыщика Российской Империи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

19 мая 1984 года в сомнамбулическом состоянии член сборной СССР по футболу Валерий Воронин вошел в пивную-автопоилку на Автозаводской улице, 17. Взял чью-то кружку, стал пить… У него вырвали кружку из рук, ударили ею по голове и вышвырнули на улицу. Кто убил Валерия Воронина, нанеся ему смертельный удар в той пьяной разборке?.. Следствие было засекреченным.
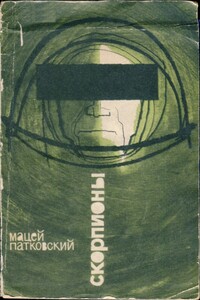
Без аннотации.Вашему вниманию предлагается произведение польского писателя Мацея Патковского "Скорпионы".

Клер Мак-Маллен слишком рано стала взрослой, познав насилие, голод и отчаяние, и даже теплые чувства приемных родителей, которые приютили ее после того, как распутная мать от нее отказалась, не смогли растопить лед в ее душе. Клер бежала в Лондон, где, снова столкнувшись с насилием, была вынуждена выйти на панель. Девушка поклялась, что в один прекрасный день она станет богатой и независимой и тогда мужчины заплатят ей за всю ту боль, которую они ей причинили. И разумеется, она больше никогда не пустит в свое сердце любовь.Однако Клер сумела сдержать не все свои клятвы…
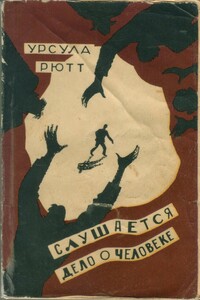
Аннотации в книге нет.В романе изображаются бездушная бюрократическая машина, мздоимство, круговая порука, казарменная муштра, господствующие в магистрате некоего западногерманского города. В герое этой книги — Мартине Брунере — нет ничего героического. Скромный чиновник, он мечтает о немногом: в меру своих сил помогать горожанам, которые обращаются в магистрат, по возможности, в доступных ему наискромнейших масштабах, устранять зло и делать хотя бы крошечные добрые дела, а в свободное от службы время жить спокойной и тихой семейной жизнью.

В центре нового романа известной немецкой писательницы — женская судьба, становление характера, твердого, энергичного, смелого и вместе с тем женственно-мягкого. Автор последовательно и достоверно показывает превращение самой обыкновенной, во многом заурядной женщины в личность, в человека, способного распорядиться собственной судьбой, будущим своим и своего ребенка.

Ингер Эдельфельдт, известная шведская писательница и художница, родилась в Стокгольме. Она — автор нескольких романов и сборников рассказов, очень популярных в скандинавских странах. Ингер Эдельфельдт неоднократно удостаивалась различных литературных наград.Сборник рассказов «Удивительный хамелеон» (1995) получил персональную премию Ивара Лу-Юхансона, литературную премию газеты «Гётерборгс-постен» и премию Карла Венберга.
![Электротерапия. Доктор Клондайк [два рассказа]](/storage/book-covers/d8/d84efd2c8d9694f782c81e385d8414b9602f6dab.jpg)