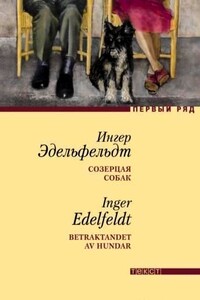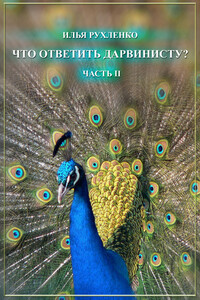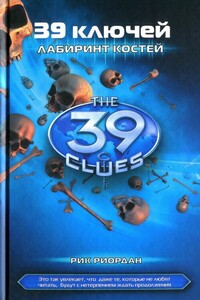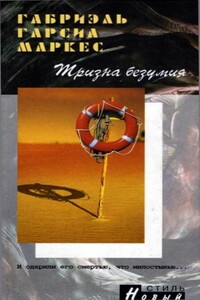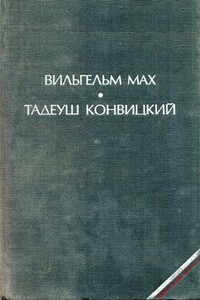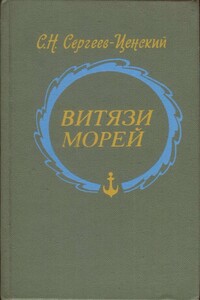Ее мать болела долго. Никто не говорил, что она может умереть: ни отец, ни брат.
Но от сознания этого нестерпимо больно сжималось сердце.
Она не заплакала даже тогда, когда узнала о смерти матери. Она просто сидела, представляя себя со стороны: вот тринадцатилетняя девочка, у которой умерла мама. Теперь она из породы чужаков; каждое ее слово будет словом, сказанным сиротой, при каждом ее движении будут думать: так двигается сирота. Она станет постоянным напоминанием о том, что матери умирают. И поэтому она будет чужой.
* * *
Ее забрали на машине мамины друзья. Она побудет с ними несколько дней.
Много позже она поймет, что это было сделано ради отца, который в минуту слабости не мог вынести ее присутствия. Ему хотелось плакать, ходить по пустому дому и плакать. Брата тоже отослали — к его лучшему другу.
Она не хотела встречаться со своей подругой. Она боялась, что случившееся испугает ее; будто сама она была заражена смертью. Может быть, через некоторое время они смогут увидеться.
Но сейчас она одна, и никто ей не нужен.
Она сидела на заднем сиденье, в машине маминых друзей. Все молчали.
За окном был туман; из-за белых завес окрестности казались оцепенелыми и бескрайними, как будто мир реальности отправился в плавание и оставил после себя лишь столько своих фрагментов, чтобы сохранялось воспоминание о нем.
Они ехали мимо возделанных полей, которые терялись в тумане, словно берега несуществующего моря.
Она увидела лошадей, они стояли настороженные, неподвижные; две светлые лошади и одна темная. Словно сделанные из гранита. Древние, как рунические камни, они вырисовывались в молочно-белом тумане.
Так теперь выглядел мир. Он стал таким; без береговых линий, застывший в движении. Она сама перемещалась по нему, не чувствуя своего тела; она вся превратилась в одну-единственную мысль, в дрожь, бегущую по листве, не человеком рожденная, не имеющая ни начала, ни конца.
Ничто не могло ранить ее; она была далеко.
Они не знали этого. Должно быть, они выдумывали какую-нибудь неправду, чтобы ее утешить. И потому молчали.
Они не знали, что ей ничего не нужно.
Когда машина нырнула под сосны и въехала на дачный участок, уже смеркалось.
Они сказали: «Вот мы и приехали, вылезай». И там был дом — такой, в какие заходят живые люди.
Нет, она не смела войти туда. И у нее не было голоса, чтобы сказать им.
Она просто повернулась и сделала несколько шагов к калитке.
Как она смогла уйти одна? Наверное, они знали, что нужно отпустить ее.
Она шла вдоль дороги мимо заколоченных летних домиков. Лишь кое-где в окнах горел свет. Они походили на экраны телевизоров. Внутри двигались люди, варили кофе, сидели за столом.
По-прежнему лежал туман, насыщенный первой синевой сумерек. Было не холодно и тихо, как перед снегопадом.
Она шла вдоль прямых улиц, сама не зная, куда идет.
Вдруг она ясно почувствовала: в одном из домов лежит умерший человек. Он мог быть в любом из оставленных домов. Там пролежал он, ненайденный, всю зиму — разлагающаяся куколка, из которой никогда не вылупится бабочка.
Ее мать лежала в земле. Девочка знала, что происходит там с человеческими телами.
«Это не имеет значения, — попробовала сказать она себе. — Тело — это всего лишь оболочка». Но было поздно. К ней уже снова вернулось все человеческое. Словно волна боли, ее охватила тоска, ненависть, внезапное отвращение.
РУКА ТВОЕЙ МАТЕРИ В ТВОЕЙ РУКЕ, ГЛАЗА ТВОЕЙ МАТЕРИ ПЕРЕД ТВОИМИ ГЛАЗАМИ, ТЫ В СВОЕЙ МАТЕРИ, ТВОЯ МАТЬ В ТЕБЕ. МИР ТЕПЛОЙ КОЖИ, К КОТОРОМУ ТЫ ПРИЖИМАЛАСЬ.
От этого никуда не спрятаться.
Плач поднялся в ней, словно какое-то чужое существо.
Она шла все дальше в туман и в легкие сумерки, едва сознавая, где находится, пока не очутилась у ограды.
Дачный участок здесь заканчивался. Тропинка провела ее по незнакомому саду, и теперь перед ней была преграда — не символическая, но вполне ощутимая. Прочная калитка преграждала ей путь.
По другую сторону ограды виднелись частые, довольно низкорослые сосны. Это место дышало открытостью, и тихое звенящее пение птиц доносилось оттуда, исполненное значения и странно неторопливое.
Она положила руку на массивную ручку, хотя знала, что калитка должна быть заперта.
* * *
Калитка плавно скользнула в сторону. Ей позволили войти.
Ни одна птица не взлетела. Ничто не изменилось с ее приходом.
Стоя под соснами, она слушала пение, его медленные каденции. Какое-то сладостное смакование было в них, как будто ребенок, оставленный один, притрагивается к клавишам пианино и изумленно вслушивается в звучание каждой ноты.
Она поняла, что находится в заповеднике; ее здесь не ждали, но и нежеланной гостьей она не была.
Меж сосен виднелась вересковая пустошь. Низкорослые можжевеловые кусты тянулись кверху в невысокой траве. В них было какое-то движение — как будто они плыли.
Она поняла, что там, внизу, скрытое туманом, должно лежать море; что это море — то самое море, которое сейчас молчало и было тихим, как спящее чудовище, — что это оно обратило их в бегство, каждого на свой лад, одного — в обличье зверя, другого — в виде волны или согнувшегося человека; все устремлены в одном направлении. Береговому лугу не было конца, в тумане он мог быть беспредельным — особый уголок мира из травы, населенной можжевеловыми существами.