Азеф - [5]
Каляев поднял нервное лицо, сказал:
– Разве не стыдно сейчас жить? Разве не легче умирать, Борис, и даже… убивать?
12
Жандармский ротмистр близко нагнулся к карточке на двери, был близорук. Потом рванул звонок четыре раза, не оборачиваясь на солдат.
Савинкову показалось – потоком хлынули жандармы, а их было всего четверо. Ротмистр с злым, покрытым блестящей смуглью, лицом шагнул на Савинкова.
– Вы студент Савинков? Проведите в вашу комнату. В комнате, опершись руками о стол, стояла бледная Вера.
– Проститесь с женой.
Сдерживая рыданья, обняв Бориса, Вера не могла оторваться от его холодноватых щек. Но лишь – взглянула. Он ответил взглядом, в котором показались любовь и нежность.
Находу застегивая черную шинель золотыми пуговицами с орлами, Савинков вышел с жандармами. Вера слышала шаги. Видела, как тронулись извозчики. Наступила какая-то страшная тишина. И Вера, рыдая, упала на кровать.
13
Ночь была теплая, весенняя. Город таял в желтом паре фонарей. Прямые улицы, бесконечные мосты в эту ночь стали прямее, бесконечнее. Савинкову казалось, жандарм едет с закрытыми глазами. На Зверинской обогнали веселую компанию мужчин и женщин. Оттуда летели визги. Савинков видел: – путь в Петропавловку. «Ничего не нашли, неужели провокация?» – думал он. Извозчик поехал по крепостному мосту.
Савинков вздрогнул, перекладывая ногу на ногу.
– Холодно? – спросил жандарм.
Из темноты выступили мрачные здания, кучи кустов, «как в театре» – подумал Савинков. Вырастали бездвижные силуэты часовых. Они слезли с пролетки. Шли по двору крепости. Желтый свет фонарей освещал лишь короткое пространство.
От ламп в конторе Савинков закрылся рукой.
–Пожалте – сказал офицер.
Савинков пошел по длинному коридору.
– Сюда – сказал голос.
Савинков вошел в темноту камеры. И дверь за ним замкнулась.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
В детской братьев Савинковых, на карте Европейской России, Вологодская губерния была розового цвета. На уроках отечественной географии не нравилось Борису Савинкову слово «Во-лог-да». Было в нем что-то холодное, розовое, похожее на тундру и клюкву.
А теперь ссыльный Савинков идет по Вологде. Скрипит на морозе деревянный тротуар. На Галкинско-Дворянской, где живет он в доме костела, даже тротуара нет. Можно утонуть в пушистых сугробах. Краснорожие мальчишки-вологжане, похожие на анисовые яблоки, возятся день-деньской с салазками против дома.
Политикантишке, как зовут северяне-туземцы ссыльных, не пристало, конечно, рассуждать об обычаях Вологды. Чай тут пьют с блюдечка, при этом свистят губами, словно дуют в дудку. Город хлебный, рыбный, лесной.
Это не Москва и не Петербург, где агитаторы, студенты, рабочие, интеллигенты. Тут тишь да гладь. Северный, суровый край Вологда.
И всё-таки много хлопот губернатору графу Муравьеву. Со всей империи шлют сюда поднадзорных. Сколько нужно полицейских чинов, чтобы только по утрам поверять: – все ли целы.
К Савинкову в дом костела ежедневно приходит стражник Щукин. И каждоутренне говорит: – Здравствуйте, господин Савинков.
– Зравствуй, Щукин.
Переминается у порога дегтем смазанными сапогами Щукин, хмыкает. Он добродушен, это видно по усам.
– Видишь, никуда не убежал.
– Да куда тут, господин Савинков, бежать. Леса. Лесами куда убежишь? Да и бежать чего, живете дай Бог всякому. Прощайте, господин Савинков.
– Прощай, Щукин.
Но только вначале был доволен Вологдой Савинков. Когда отдыхал, когда вернулся голос, после девяти месяцев крепости ставший от молчания похожим на голос кастрата. Теперь всякий шум не казался громовым, как в звенящей тишине тюрьмы. Но всё скучней и скучней становилось ему в вологодских снегах.
Как-то, идя в глубоких ботах по Галкинской-Дворянской, Савинков решил: бежать. Думал в Вологде о многом. Но больше всего об одном выстреле. И чувствовал необыкновенное, захватывающее волненье.
В переданном тайно письме описывали, как в вестибюль Мариинского дворца вошел высокий министр Сипягин в теплой шубе с воротником. За ним следом в адъютантской форме с пакетом – красивый юноша-офицер. Передавая пакет Сипягину от великого князя, офицер выпустил пять пуль в министра. Тучный министр Ванновский обегая на помощь Сипягину по лестнице, кричал: – Негодяй! Раздеть! Это не офицер, это ряженый!
Савинков шел по потухающим вологодским улицам. Улицы мертвые, тихие. Огни вогнаны в натопленные спальни, в опочивальни, в гостиные с плюшевыми креслами в пуговичках, с граммофонами, качалками, с чаем с малиновым вареньем, с шафраном, шалфеем, с хлебным квасом.
2
По России народнической агитаторшей тогда ездила бабушка русской революции Катерина Брешковская. В Уфе видалась она с Егором Сазоновым. В Полтаве с Алексеем Покотиловым. В Саратове, Киеве, Курске, Полтаве, Каменец-Подольске, Царицыне, Варшаве – везде побывала властная, старая каторжанка, вербуя партии новые силы.
В Ярославле виделась с ссыльным Каляевым. Он передал ей письмо Савинкова. Брешковская была на пути в Вологду, где становилось Савинкову невыносимо жить.
Мерещился выход на сцену, залитую миллионами глаз, бластилась и смерть и слава.
Савинков распечатывал телеграмму.
«Приеду пятницу. Вера».
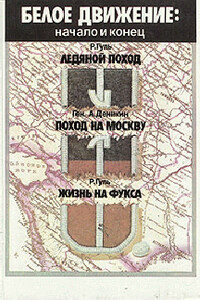
Эмиграция «первой волны» показана в третьем. Все это и составляет содержание книги, восстанавливает трагические страницы нашей истории, к которой в последнее время в нашем обществе наблюдается повышенный интерес.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор этой книги — видный деятель русского зарубежья, писатель и публицист Роман Борисович Гуль (1896–1986 гг.), чье творчество рассматривалось в советской печати исключительно как «чуждая идеология». Название мемуарной трилогии Р. Б. Гуля «Я унёс Россию», написанной им в последние годы жизни, говорит само за себя. «…я унес Россию. Так же, как и многие мои соотечественники, у кого Россия жила в памяти души и сердца. Отсюда и название этих моих предсмертных воспоминаний… Под занавес я хочу рассказать о моей более чем шестидесятилетней жизни за рубежом.».
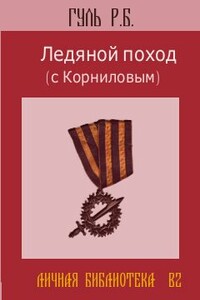
Гуль - Роман Борисович (1896-1986) - русский писатель. С 1919 за границей (Германия, Франция, США). В автобиографической книге ""Ледяной поход""(1921) описаны трагические события Гражданской войны- легендарный Ледяной поход генерала Корнилова , положивший начало Вооруженным Силам Юга России .
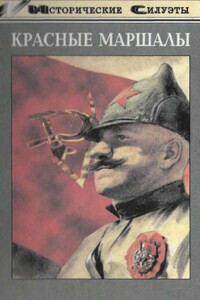
«Красные маршалы» Романа Гуля — произведение во многом уникальное. Сам автор — ветеран белого движения, участник I-го Кубанского («Ледового») похода Добровольческой армии — сражался с этими «маршалами» на полях гражданской войны, видел в них прежде всего врагов, но врагов сильных, победоносных, выигравших ту страшную братоубийственную войну.Любопытство, болезненный интерес побежденного к победителям? Что двигало Гулем, когда в эмиграции он взялся писать о вождях Красной Армии?Материала было мало, и сам Гуль не всегда считал его достоверным.
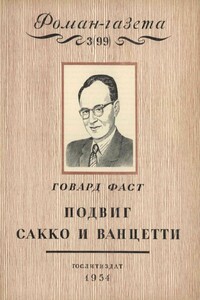
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
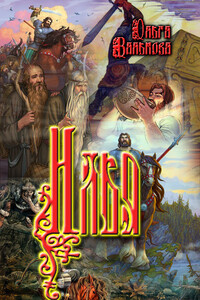
Роман по мотивам русских былин Киевского цикла. Прошло уже более ста лет с тех пор, как Владимир I крестил Русь. Но сто лет — очень маленький срок для жизни народа. Отторгнутое язычество еще живо — и мстит. Илья Муромец, наделенный и силой свыше, от ангелов Господних, и древней силой от богатыря Святогора, стоит на границе двух миров.

Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.

Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.
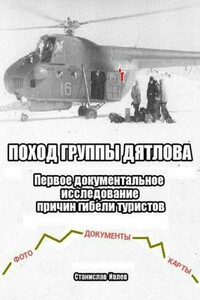
В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.
