Азеф - [3]
– Что вам угодно, молодой человек?
– Тут сдается комната?
Человек с сумасшедшими глазами не мог сообразить сдается ли тут комната. Он долго думал. И повернувшись, пошел от двери крикнув:
– Вера, покажи комнату!
Навстречу Савинкову вышла девушка, с такими же темными испуганными глазами. Она куталась в большую шаль.
– Вам комнату? – певуче сказала она. – Пожалуйста проходите.
– Вот, – проговорила девушка, открывая дверь. Комната странной формы, почти полукруглая. Стол с керосиновой лампой, кровать, умывальник. Савинков заметил в девушке смущение. «Наверное комнат никогда не сдавала».
– Сколько стоит?
– Пятнадцать рублей, но если вам дорого… Девушка, смутившись, покраснела.
– Нет, я беру за пятнадцать, – сказал Савинков.
– Хорошо, – и девушка, взглянув на него, еще больше смутилась.
4
Императорский университет показался Савинкову муравейником, в котором повертели палкой. Съехавшиеся со всей России студенты негодовали потому, что были молоды. В знаменитом коридоре университета горела возмущением толпа. Варшавские профессора послали министру приветствие по поводу открытия памятника генералу Муравьеву, усмирителю польского восстания. И от давки, волнения, возмущения, Савинков чувствовал, как внутри у него словно напрягается стальная пружина. Он протискивался в аудиторию. Вместо профессора Фан дер Флита на кафедру взбежал студент в русской рубашке с закинутыми назад волосами, закричав:
– То-ва-ри-щи!
Савинкова сжали у кафедры. Он видел, как бледнел оратор, как прорывались педеля, а студент кричал широко разевая рот. Аудитория взорвалась бурей аплодисментов молодых рук. У Савинкова похолодели ладони, внутри острая дрожь. Взбежав на кафедру, он крикнул во все легкие: – Товарищи! – и начал речь.
5
За окном плыла петербургская ночь. От возбужденья речью, толпой, Савинков не спал. Возбужденье переходило в мысли о Вере. Она представлялась хрупкой, с испуганными глазами. Савинков ворочался с боку на бок. Заснул, когда посинели окна.
Утром Вера проводила теплой рукой по заспанному лицу, потягивалась, натягивая на подбородок одеяло. За стеной кашлял Савинков.
– С добрым утром, Вера Глебовна, – проговорил весело в коридоре.
– С добрым утром, – улыбнулась Вера, не зная почему, добавила: – А вы вчера поздно пришли?
– Да, дела всё.
– Я слышала, выступали с речью в университете – и не дожидаясь оказала: – Ах, да, к вам приходил студент Каляев, говорил, вы его знаете, он сегодня придет.
– Каляев? Это мой товарищ по гимназии. Вера Глебовна.
Смутившись под пристальным взглядом, Вера легко заспешила по коридору. А когда шла на курсы, у Восьмой линии обдал ее снежной, за ночь выпавшей пылью сине-кафтанный лихач. И эта снежная пыль показалась Вере необыкновенной.
6
Студент Каляев был рассеян. Долго путался в линиях Васильевского острова. Даже на Среднем едва нашел нужный дом.
На столе шипел самовар. Горела лампа в зеленом, бумажном абажуре. Савинков резал хлеб, наливал чай в стаканы, слушал Каляева.
– Еле выбрался, денег, понимаешь, не было, уж мать где-то заняла – с легким польским акцентом говорил Каляев.
– С деньгами, Янек, устроим. Университет, брат, горит! Какие сходки! Слыхал о приветствии профессоров?
У Каляева светлые, насмешливые глаза, непохожие на быстрые, монгольские глаза Бориса. Лицо некрасиво, аскетически-худое.
– Рабы… – проговорил он.
– Единственная революционная организация это – «Касса». Я войду и тебе надо войти, Янек.
Каляев был задумчив, не сводя глаз с абажура, он сказал:
– Вот я ехал сюда в вонючем вагоне, набит доверху, сапожищи, наплевано. Всю ночь не спал. А на полустанке вылез, – тишина, рассвет, птицы поют, стою у поезда и всей кожей чувствую, до чего жизнь хороша!.. а приехал – памятник Муравьеву, жандармы, нагайки, – Каляев махнул рукой, встал, заходил по комнате.
Над ночной стеной серых, грязных домов, в петербургском небе горело несколько звезд.
– Горят звезды, – тихо сказал Каляев, глядя в окно, – в небе темно, а звезды всё-таки есть. Горят и не гаснут. Савинков, смеясь, обнял его.
– Ты поэт, Янек! Хочешь прочту тебе свое последнее cтихотво-рение?
В зеленоватом, от лампы, сумраке Савинков закинуто встал, зачитал отрывисто:
– Хорошо, по моему, – улыбаясь сказал Каляев.
Знаешь кого я люблю?
– Кого?
– Метерлинка.
7
Вера знала его быстрые шаги по коридору. Знала, что торопливо отпирает дверь. Савинков знал, почему торопился со сходки. Поднимаясь, внутренне проговорил: – «В окне свет». – Войдя, услыхал: – Вера поет вполголоса за стеной. И чем слышней пела Вера, тем сильней хотелось ее видеть.
Мотив кончился. Потом возник. Савинков услыхал: мотив пошел в столовую. Снова стал приближаться. Когда был у двери, Савинков распахнул:
– Как вы напугали – вздрогнула Вера. Движенье было: поддержать. Савинков сказал:
– Я только что пришел, зайдите, Вера Глебовна, посидим.
Вера волнения его не видела.
– Вы сегодня не ходили на курсы?
– Почему?! Была.
– Ах были? Слушали Лесгафта, он любимец курсисток…
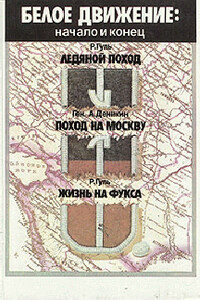
Эмиграция «первой волны» показана в третьем. Все это и составляет содержание книги, восстанавливает трагические страницы нашей истории, к которой в последнее время в нашем обществе наблюдается повышенный интерес.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор этой книги — видный деятель русского зарубежья, писатель и публицист Роман Борисович Гуль (1896–1986 гг.), чье творчество рассматривалось в советской печати исключительно как «чуждая идеология». Название мемуарной трилогии Р. Б. Гуля «Я унёс Россию», написанной им в последние годы жизни, говорит само за себя. «…я унес Россию. Так же, как и многие мои соотечественники, у кого Россия жила в памяти души и сердца. Отсюда и название этих моих предсмертных воспоминаний… Под занавес я хочу рассказать о моей более чем шестидесятилетней жизни за рубежом.».
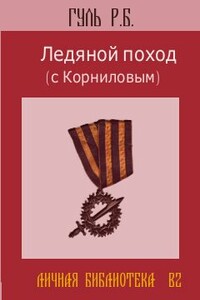
Гуль - Роман Борисович (1896-1986) - русский писатель. С 1919 за границей (Германия, Франция, США). В автобиографической книге ""Ледяной поход""(1921) описаны трагические события Гражданской войны- легендарный Ледяной поход генерала Корнилова , положивший начало Вооруженным Силам Юга России .
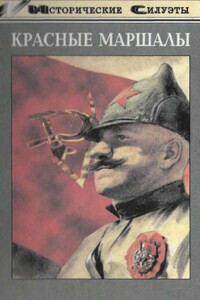
«Красные маршалы» Романа Гуля — произведение во многом уникальное. Сам автор — ветеран белого движения, участник I-го Кубанского («Ледового») похода Добровольческой армии — сражался с этими «маршалами» на полях гражданской войны, видел в них прежде всего врагов, но врагов сильных, победоносных, выигравших ту страшную братоубийственную войну.Любопытство, болезненный интерес побежденного к победителям? Что двигало Гулем, когда в эмиграции он взялся писать о вождях Красной Армии?Материала было мало, и сам Гуль не всегда считал его достоверным.
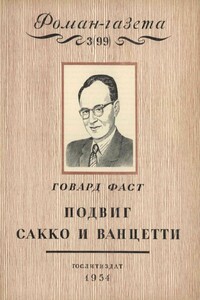
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
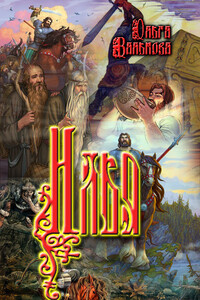
Роман по мотивам русских былин Киевского цикла. Прошло уже более ста лет с тех пор, как Владимир I крестил Русь. Но сто лет — очень маленький срок для жизни народа. Отторгнутое язычество еще живо — и мстит. Илья Муромец, наделенный и силой свыше, от ангелов Господних, и древней силой от богатыря Святогора, стоит на границе двух миров.

Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.

Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.
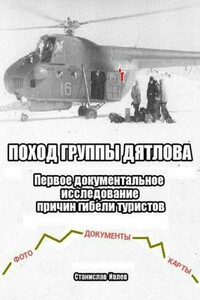
В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.
