Азарел - [7]
Продолжая бормотать, он следил, как поднимаются языки пламени и клубы дыма. И его душа тоже, как некое пропитанное копотью пламя, устремлялась вверх, туда, где за облаками мнился ей суровый деспот, столь жадный до обрядов и церемоний, — Господь: о Нем дозволены лишь догадки, и во многом воображение дедушки сближало Его с теми царями, что так часто обращают к нам из истории Востока свои лики, подернутые кровавою, гибельною пеленою. Как в жизни его предков, так и в его сердце ужас перед страданием, перед беспомощностью сложил образ Царя, который сплошь и рядом руками земных тиранов, похожих на Него самого, разорял «преступные гнезда милых Его сынов». Чем бессильнее были предки, тем больше надо было обещать этому Богу, чтобы стяжать Его благоволение хотя бы в будущем. Они возложили на себя самое тяжкое ярмо жертвоприношений, жертвовали Ему лучшие куски от своей пищи, лучшие первины из того, что производила их земля, самых непорочных новорожденных от своего скота, а потом все свои думы, все телодвижения преобразили в обряд, только чтобы утишить гневно раздувающиеся Его ноздри. И теперь дым моих игрушек поднимался из этого двора к небу того же ради. Предки в сердце дедушки Иеремии не возрождались к новой жизни, но, какими жили и умерли, набальзамированные, жили дальше.
Но обо всем этом дедушка Иеремия не знал; он готовился в путь.
Этот путь был описан прописными буквами перед его глазами. То был Путь во всей глубине своего символического значения. Путь, ведущий к цели, единственный из всех путей, ведущий туда. К Цели.
Отныне он купался по меньшей мере трижды в день, в тепловатой воде подпруженного ручья, бежавшего позади кладбища. Не забота о телесной чистоте вела его в воду, но потребность обряда: он входил в воду, чтобы забыть свое тело, с молитвами, которые специально для этого случая составили старинные грамотеи. Но, по сути вещей, у него не было причины обороняться против своего бедного тела, в котором не было уже ничего, кроме жил и костей, и все заросло густой черной шерстью, как у овец, которых он столько раз стриг. В мрачном благоговении, сидел он на корточках в мелкой проточной воде, и ноги его, разбитые хождениями по деревням, были похожи на ходули. Эта вода, в его глазах, не была водою. Она была орудием религиозных предписаний, и не пену и не волны видел он в ней, но еврейские буквы. Но вдобавок был еще и символ: Вода. Не сок земли, в котором водятся рыбы, лягушки, камушки, растения, не влажная громада жизни, но та вода, которую в третий день сотворил Иегова.
Его тело гнушалось воды. Брезгало. Но душа плескалась, омывалась в символе. С кислою физиономией обрызгивал себя набожный старик, но мрачное, на все готовое благоговение было сильнее. Иногда он обмакивал свои костлявые, узловатые, длинные пальцы в проточную воду, пальцы, которые ветвились от ладони наподобие восклицательных знаков. Потом чертил ими таинственные фигуры, как вычитал из Сокровенных Толкований.
На третий день сотворил Господь воду и отделил сушу от морей. Море — это неустойчивость, текучесть. Земля — это определенность. Море — это сомнение. Наполовину язычество. Суша — это вера. Это настоящий иудаизм. Стало быть, если входишь в воду, надо исполнять все законы с еще большим усердием, потому что под тобою — сомнение. Поэтому, кто пускается в море, должен быть осторожнее того, кто путешествует по лесу. Берегись: на суше на каждый твой палец приходится по одной заповеди, на воде — по две.
Дедушка Иеремия садится в воду поглубже. Теперь видна только голова.
Сколько раз я видел во сне эту картину! Голову дедушки Иеремии над водой, меж тем как его бороду то и дело пытается утащить за собою вдаль бойкая рябь.
Но борода не поддавалась. Она колыхалась, размётывалась вокруг подбородка пугающими мой детский взор движениями. Я боялся ее не только потому, что она была длинная, серо-черная, мрачная, безотрадная, странная и принадлежала дедушке Иеремии, но потому еще, что напоминала мох и жимолость в трещинах камней храма — они меня всегда пугали. В каких только видах не возвращалось ко мне это позже во сне! Ручеек превращался в громадную реку, голова и борода дедушки Иеремии разрастались в моих сновидениях ни с чем не сообразно. Сколько раз эти сны, при всей их сумбурности, возвращали меня позже в то время, когда трижды в день я сидел у ручья, одетый только в платок, повязанный по бедрам, и в молитвенный плат, крепко привязанный к шее, чтобы его не сорвал какой-нибудь куст или не сдул ветер, пока я лазаю невесть где… Голый, с отсутствующим взглядом, этаким испуганным и притерпевшимся к страху лягушонком, сидел я там, а дедушка Иеремия глядел на меня из воды с жалкой и подозревающей улыбкой. После семи сыновей, которые все «изменили», он не мог улыбаться без подозрения даже ребенку, самому младшему из своих внуков.
Вероятно, он следил за мною, постоянно находясь между сомнением и надеждою. И то, что он сидел там в ручье, молясь и исполняя обряд, он делал столько же ради меня, сколько ради себя самого. Ему казалось: я тоже «очищаюсь» там, в ручье, вместе с ним, и мой страх, который не давал мне шевельнуть ни рукой, ни ногой, принимал, может быть, за смирение. Он уже хотел сделать меня наследником своих «заслуг» в молитве, и, ритуально обрызгав несколько раз свое тело, он звал меня к себе, в воду, которой я боялся в точности так же, как его бороды и кладбищенских цветов. Он брал меня на руки и бормотал, не переставая, но он сильно состарился и, полный мыслями о Иерусалиме, не смог бы вымолвить ничего на языке, понятном малому ребенку, каким был я. Я свертывался в клубок у него на руках и со страхом смотрел в воду, которая булькала под ногами, как некая загробная музыка; волны казались мне угрожающе живыми, я боялся, как бы они не причинили мне вреда: вдруг какая-нибудь из них подпрыгнет и укусит меня за ногу? Я морщил лоб и без конца вращал глазами. Тут дедушка Иеремия со всевозможными набожными речами окунал меня в воду несколько раз, понапрасну я плакал и отбивался: он только бормотал свои сокровенные, благословляющие речения, только вращал и зажмуривал, попеременно, свои черные, полные одиночества, бычьи глаза, только прижимал меня к себе волосатыми, костлявыми, длинными руками.
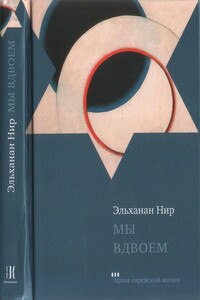
Пристально вглядываясь в себя, в прошлое и настоящее своей семьи, Йонатан Лехави пытается понять причину выпавших на его долю тяжелых испытаний. Подающий надежды в ешиве, он, боясь груза ответственности, бросает обучение и стремится к тихой семейной жизни, хочет стать незаметным. Однако события развиваются помимо его воли, и раз за разом Йонатан оказывается перед новым выбором, пока жизнь, по сути, не возвращает его туда, откуда он когда-то ушел. «Необходимо быть в движении и всегда спрашивать себя, чего ищет душа, чего хочет время, чего хочет Всевышний», — сказал в одном из интервью Эльханан Нир.
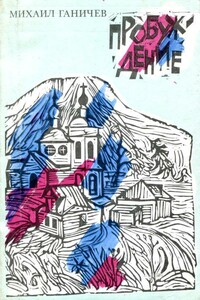
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Роман «Эсав» ведущего израильского прозаика Меира Шалева — это семейная сага, охватывающая период от конца Первой мировой войны и почти до наших времен. В центре событий — драматическая судьба двух братьев-близнецов, чья история во многом напоминает библейскую историю Якова и Эсава (в русском переводе Библии — Иакова и Исава). Роман увлекает поразительным сплавом серьезности и насмешливой игры, фантастики и реальности. Широкое эпическое дыхание и магическая атмосфера роднят его с книгами Маркеса, а ироничный интеллектуализм и изощренная сюжетная игра вызывают в памяти набоковский «Дар».

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.