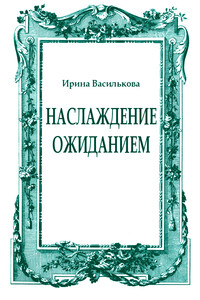Автоматические записи Вл. Соловьева - [2]
Также, начиная приблизительно с первой половины 1920-х годов, Чулков пересмотрел свой взгляд на историческое христианство. В письме к жене от 24 декабря/6 января 1935 года он писал: «Мой взгляд тогдашний (имелось в виду начало литературной деятельности. – М. М.) на историческое христианство ложен <…> я решительно заблуждался в оценке и понимании богочеловеческого процесса. Главное мое заблуждение, противоречащее <нрзб.> моему внутреннему миру, – это уклончивое отношение к исповеданию той Истины, что две тысячи лет назад была воплощена до конца и явлена была человечеству в своей единственности и абсолютности. <…> Я исповедую, что галлилеянин раввин Иисус, две тысячи лет назад распятый по приказу римского чиновника Пилата <…>, был Истинным Спасителем всего мира и воистину воскрес „по писаниям пророков“. Я верю, что прекраснее, мудрее и свободнее не было на земле существа – не было и никогда не будет»[3]. И всю свою деятельность последних двух десятилетий – а Чулкову все же с огромным трудом, но удалось в 20-е и 30-е годы напечатать свои литературоведческие изыскания о Пушкине, Тютчеве, Достоевском, исторические портреты «Императоры» (1928), «Мятежники» (1925), романы и повести из эпохи декабристов – он в этом же письме просил оценивать «в свете этого моего исповедания».
В последние годы именно религия давала ему возможность дышать воздухом «тайной свободы», которого так не хватало в реальной действительности. Писателю это было совершенно необходимо, так как лучшие его произведения оставались под цензурным запретом. Одно из них – повесть «Вредитель» (1931–1932) – было опубликовано только в наше время («Знамя». 1992. N 1).
В дни тяжкой болезни в 1921 г. он оставил в дневнике такую запись «Нищим жил, нищим умираю…»[4]. Она должна была стать началом его завещания. Но подлинным его завещанием стало, конечно, цитировавшееся выше письмо, писавшееся в Рождество 1935 г.
М. В. Михайлова
Автоматические записи Вл. Соловьева
Г. И. ЧУЛКОВ
В этой небольшой заметке, предлагаемой вниманию читателей, я позволю себе транскрибировать девять автографов Владимира Соловьева, до сих пор не известных и нигде не напечатанных. Малые по размеру, они представляют, однако, исключительный интерес как психологические и биографические документы, и в качестве таковых они являются в известной мере ключом к пониманию его поэзии – особливо таких стихотворений, как «Три свидания» или «Das Ewig-Weibliche»{1}. Мое задание я ограничу воспроизведением этих автографов, описанием их и соответствующими комментариями по данным биографии Соловьева. И там, где мне придется считаться с его философией и его религиозными верованиями, я постараюсь избегнуть оценки публикуемых документов по существу: в данном случае я не хочу выходить за пределы объективного психологического и историко-критического анализа.
Чтобы понять смысл публикуемых автографов, надо принять во внимание два обстоятельства: во-первых, то, что Соловьев был «визионер», и ему в высшей мере были свойственны переживания «медиумического» типа, во-вторых, то, что в основе мировоззрения Соловьева лежала гностическая и христианская идея Софии. Автографы, о которых идет речь, суть не что иное, как «медиумические» записи, сделанные рукою поэта, весьма типичные для так называемого автоматического письма. Эти автографы не единственные. Нам известно, что имеются и другие записи такого же приблизительно содержания, до сих пор не опубликованные.
Автографы, нами транскрибированные, получены из двух источников. Семь из них принадлежат A. M. Кожебаткину{2}, который любезно предоставил их нам для опубликования. Два других найдены нами в бумагах Соловьева, хранящихся в рукописном отделении Саратовской университетской библиотеки. Этими двумя автографами мы воспользовались благодаря любезности С. Л. Франка, которому и приносим нашу благодарность.
О «визионерстве» Владимира Соловьева и об его «медиумических» способностях мы знаем из общеизвестных литературных источников, а также из устного предания. С нами делились своими воспоминаниями о философе лично знавшие его Г. А. Рачинский{3}, С. М. Соловьев{4}, В. А. Тернавцев{5}, покойная А. Н. Шмидт{6} и другие. Все, кому довелось знать Вл. С. Соловьева, утверждают, что он всегда производил впечатление человека «необычайного», как бы предназначенного по самой природе своей к «двойному бытию». Он всегда как бы прислушивался к голосам «иного мира». Кн. Евгений Трубецкой в своей статье «Личность Владимира Сергеевича Соловьева» (Сборн. «Путь». М., 1911. С. 62) пишет: «Он признавал в галлюцинациях явления субъективного и притом больного воображения. Но это не мешало ему верить в объективную причину галлюцинаций, которая в нас воображается, воплощается через посредство субъективного воображения во внешней действительности. Словом, в своих галлюцинациях он признавал явления медиумические. И в самом деле как бы мы ни истолковывали спиритические явления, какого бы взгляда ни держались на их причину, нельзя не признать, что самые явления переживались Соловьевым очень часто. Он во всяком случае был очень сильный медиум, хотя невольный, пассивный».

Л. Д. Зиновьева-Аннибал (1866–1907) — талантливая русская писательница, среди ее предков прадед А. С. Пушкина Ганнибал, ее муж — выдающийся поэт русского символизма Вячеслав Иванов. «Тридцать три урода» — первая в России повесть о лесбийской любви. Наиболее совершенное произведение писательницы — «Трагический зверинец».Для воссоздания атмосферы эпохи в книге дан развернутый комментарий.В России издается впервые.

«В первый раз я увидел Ермолову, когда мне было лет девять, в доме у моего дядюшки, небезызвестного в свое время драматурга, ныне покойного В.А. Александрова, в чьих пьесах всегда самоотверженно играла Мария Николаевна, спасая их от провала и забвения. Ермоловой тогда было лет тридцать пять…».

«Друзья зашли в цветочный магазин и взяли букет из роз, приготовленный для Вениамина. Они вышли на улицу, слегка опьяненные влажным и дурманным запахом цветов, привезенных из Ниццы, томных, усталых от долгого пути… Николай и Вениамин прошли два бульвара, пересекли площадь, миновали собор и уже хотели по привычке идти на мост, как вдруг из тумана выросла какая-то дюжая фигура и загородила им дорогу…».

«И наша литература всегда возникала и развивалась, обретая в борьбе свое право. Художники были взыскательны не столько к своему мастерству, сколько к самим себе, к своей сущности, и мечтали быть не столько «веселыми ремесленниками», сколько учителями жизни или, по крайней мере, ее судьями. Моральные и религиозные интересы преобладали над интересами чистого искусства, наивного и слепого…».
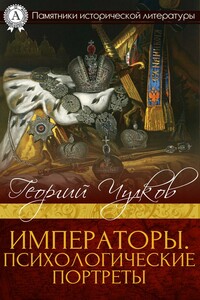
«Императоры. Психологические портреты» — один из самых известных историко-психологических очерков Георгия Ивановича Чулкова (1879–1939), литератора, критика, издателя и публициста эпохи Серебряного века. Писатель подвергает тщательному, всестороннему анализу личности российских императоров из династии Романовых. В фокусе его внимания — пять государей конца XIX — начала XX столетия. Это Павел І, Александр І, Николай І, Александр ІІ и Александр ІІІ. Через призму императорских образов читатель видит противоречивую судьбу России — от реформ к реакции, от диктатур к революционным преобразованиям, от света к тьме и обратно.

«Создать такой журнал, как «Вопросы жизни», на рубеже 1904 и 1905 годов было нелегко. И не только потому, что судьба его зависела от царского правительства и его цензуры. Создать такой журнал было трудно потому, что историческая обстановка вовсе не благоприятствовала пропаганде тех идей и верований, какие занимали тогда меня и моих литературных друзей. Программа идейной пропаганды, какую мы мечтали развернуть, была рассчитана на несколько лет. Но зашумела революция, и вся жизнь полетела, как парусное суденышко, подхваченное штормом…».

Что происходит с современной русской литературой? Почему вокруг неё ведётся столько споров? И почему «лучшие российские писатели» оказываются порой малограмотными? Кому и за что вручают литературные премии? Почему современная литература всё чаще напоминает шоу-бизнес и почему невозможна государственная поддержка писателей, как это было в СССР? Книга отвечает на множество злободневных вопросов и приоткрывает завесу над современным литературным процессом.Во второй главе представлены авторские заметки о великих русских писателях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предлагаем читателям первый обзор из серии «Кинопробы космической экспансии», посвященной истории «освоения» кинофантастикой Солнечной системы. Известный популяризатор истории космонавтики и писатель-фантаст Антон Первушин в трех статьях расскажет о взглядах кинематографистов на грядущее покорение Луны, Марса и Венеры. В первом обзоре автор поглядывает на естественный спутник Земли. О соседних планетах — читайте в ближайших номерах журнала. Из журнала «Если», 2006, №№ 7, 8, 10; 2007, № 5.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.