Август в Императориуме - [110]
— Смысл писания вовсе не в авторстве… Что может дать писание этому жадному и жалкому телу, чего нельзя получить иными способами? И разве не всё равно будет потом, КАК некогда звали это жадное и жалкое тело, возникшее из нигде и никогда, а затем изветшавшее, как платье, и ушедшее негодным в вековечную тьму… Тело, не имевшее даже своего порядкового номера в мириадной толчее рождений и смертей!
— Но ведь авторство — это символ души, подпись духа, щедрая ладонь, на которой тебе протягивают дар, — возразил Рамон, покоробленный такой откровенностью.
— «Подпись духа» как-то нехорошо звучит… — пробормотал Пончо.
— Верно! Но вы не задумывались над простым вопросом: а зачем (в конечном счете, естественно) символу — душа, подписи — дух, дару — ладонь? Зачем автору текст, понятно: мы слабы и суетны в своей мелочной гордыне, и страсти снедают нас… Но зачем, скажите на милость, тексту — автор? Когда старая громоздкая ель, неотвязно поскрипывая, вздыхает и шуршит в ночном ветреном небе, пытается ли этот шорох напомнить воровато крадущейся облаками воспаленно-бледной луне имя безымянной ели? Или зарисовать-заарканить игольчатой кистью каждой веточки всю её трудно-беспокойную жизнь — состоящую всё из тех же подавленных вздохов, шуршаний и скрипов? Полноте!
— Но тогда зачем же? — не унимался Пончо. — И в чем же, наконец, смысл?
— Смысл не бывает в чем-то, дорогой пофигист… Смысл — это что-то существующее, означающее появление собственного, а не заёмного бытия… Смысл всегда обретается в причастности большему, нежели ты сам — и каждый открывает-выбирает это большее по себе… Смысл писательства — в причастности вечно творящейся жизни. Ты не пишешь, Пончо, — ты рождаешься и становишься, переживая за мать и дитя сразу, одновременно, а над вашей колыбелью склонился чуткий и трепетный отец-мир — но это тоже ты… Ты зачинаешь и зачинаешься, рождаешь и рождаешься, растишь и растёшь, сияешь, чтобы отгадать сияние, — и вот ты ЕСТЬ… Разве ты никогда не обращал внимание, как бывают беспричинно, но так лучезарно счастливы родители и их дети, просто глядя друг на друга — глядя и пребывая вместе, в одном круге сотворенного счастья!
— То есть творчество — это человеческое подражание не природе, а её способу творить жизнь… — догадался Рамон.
— Конечно. И в этом способе нет смерти, ибо смерть — всего лишь остановка, пауза в творении, затянувшаяся пауза, роковое — пока ещё роковое! — неуспевание за общим движением… Но ель сгинет — и сгинет бесследно её шепот; а я сгину — мой шёпот получит шанс смешаться с теми, кто шептал до меня… Может быть, когда-нибудь этого общего шепота станет достаточно, чтобы мир наконец расцвел заново, как дивная роза… которая уже совсем близко, её вот-вот уже внесут в комнату умирающего… — голос его дрогнул.
И ещё раз, напоследок, звучал гипнотизирующий квазидовский — нет, уже не его, а чей-то ещё — голос; куда-то в безбрежность разливалась сверкающая мириадами лучезарных слов эпическая река; Рамон, весь обратившись в слух, под завораживающий речитатив Квазида исчезал глазами в пустом окне. А там…
— Мне пора, — с трудом проговорил Силеус, поцеловав сонную теплую Джайю. — Надо ехать.
— Ну-у, — не открывая своих чудесных глаз, в полусне она по-детски выпятила губы и повернулась набок. — Куда ты…
— Как всегда.
Джайя вздохнула с жалобным полузвуком и через пару секунд уже крепко спала, разметав руки и волосы по подушкам.
В полумрак прихожей из зашторенных окон холодно цедился отрешенный утренний полусвет, и Силеус, наспех освежив лицо, уже взялся за дверную ручку, чтобы, крадучись, выскользнуть из Незаметных Покоев, как вдруг странное дежа вю остановило его. За дверью, он помнил, был беззвучный ковровый коридор — но почему-то к этой же самой двери, стараясь не топать, он же поднимался в предутренний час по узкой грязной лестнице, осторожно звякал ключом и, войдя, прислонялся к стене и надолго замирал в горестном изнеможении. Иногда через полчаса он всё-таки тихонько разувался, проходил и, стараясь не скрипеть пружинами, опускался в кресло рядом с кроватью и долго смотрел. Иногда, так и не отважившись, уходил, стараясь не греметь замком и ботинками. Что за…
Эпилог
…Вот зачем существует ковер — поверх узора Судьбы он должен быть покрыт невнятными письменами уходящей жизни. У меня, старого толстого словомела, давным-давно нет тихой солнечной спальни с видом на лениво искрящееся море и тёмно-зелёный краешек горы, с выцветшими креморозовыми обоями, большим пыльноцветным ковром на стене и тремя опрокинутыми стеклянными тюльпанами видавшей виды люстры… Собственно, и меня давным-давно нет. Я так и не существовал.

Валенсия мечтала о яркой, неповторимой жизни, но как-то так вышло, что она уже который год работает коллектором на телефоне. А еще ее будни сопровождает целая плеяда страхов. Она боится летать на самолете и в любой нестандартной ситуации воображает самое страшное. Перемены начинаются, когда у Валенсии появляется новый коллега, а загадочный клиент из Нью-Йорка затевает с ней странный разговор. Чем история Валенсии связана с судьбой миссис Валентайн, эксцентричной пожилой дамы, чей муж таинственным образом исчез много лет назад в Боливии и которая готова рассказать о себе каждому, готовому ее выслушать, даже если это пустой стул? Ох, жизнь полна неожиданностей! Возможно, их объединил Нью-Йорк, куда миссис Валентайн однажды полетела на свой день рождения?«Несмотря на доминирующие в романе темы одиночества и пограничного синдрома, Сьюзи Кроуз удается наполнить его очарованием, теплом и мягким юмором». – Booklist «Уютный и приятный роман, настоящее удовольствие». – Popsugar.
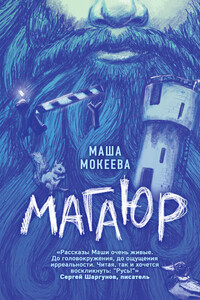
Маша живёт в необычном месте: внутри старой водонапорной башни возле железнодорожной станции Хотьково (Московская область). А еще она пишет истории, которые собраны здесь. Эта книга – взгляд на Россию из окошка водонапорной башни, откуда видны персонажи, знакомые разве что опытным экзорцистам. Жизнь в этой башне – не сказка, а ежедневный подвиг, потому что там нет электричества и работать приходится при свете керосиновой лампы, винтовая лестница проржавела, повсюду сквозняки… И вместе с Машей в этой башне живет мужчина по имени Магаюр.
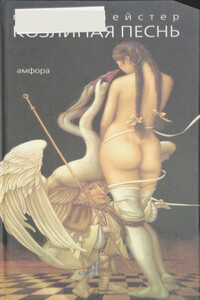
Эта странная, на грани безумия, история, рассказанная современной нидерландской писательницей Мариет Мейстер (р. 1958), есть, в сущности, не что иное, как трогательная и щемящая повесть о первой любви.
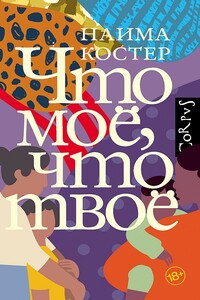
В этом романе рассказывается о жизни двух семей из Северной Каролины на протяжении более двадцати лет. Одна из героинь — мать-одиночка, другая растит троих дочерей и вынуждена ради их благополучия уйти от ненадежного, но любимого мужа к надежному, но нелюбимому. Детей мы видим сначала маленькими, потом — школьниками, которые на себе испытывают трудности, подстерегающие цветных детей в старшей школе, где основная масса учащихся — белые. Но и став взрослыми, они продолжают разбираться с травмами, полученными в детстве.

Страшная, исполненная мистики история убийцы… Но зла не бывает без добра. И даже во тьме обитает свет. Содержит нецензурную брань.

События книги разворачиваются в отдаленном от «большой земли» таежном поселке в середине 1960-х годов. Судьбы постоянных его обитателей и приезжих – первооткрывателей тюменской нефти, работающих по соседству, «ответработников» – переплетаются между собой и с судьбой края, природой, связь с которой особенно глубоко выявляет и лучшие, и худшие человеческие качества. Занимательный сюжет, исполненные то драматизма, то юмора ситуации описания, дающие возможность живо ощутить красоту северной природы, боль за нее, раненную небрежным, подчас жестоким отношением человека, – все это читатель найдет на страницах романа. Неоценимую помощь в издании книги оказали автору его друзья: Тамара Петровна Воробьева, Фаина Васильевна Кисличная, Наталья Васильевна Козлова, Михаил Степанович Мельник, Владимир Юрьевич Халямин.