Август в Императориуме - [109]
В этот момент зазвенел колокольчик — как всегда, на самом интересном месте! — сообщавший, что к хозяину пришли. Извинившись перед слушателями, Квазид скрылся за пересыпающимся стуком бамбуковой занавеси, тяжело протопал по настилу галереи в другую часть дома, по дороге тихо ругаясь с присоединившейся к нему шипящей, как рассерженная кошка, Латифой…
И вскоре снова звучал гипнотизирующий квазидовский — нет, уже не его, а чей-то ещё — голос; всё шире и шире, окончательно теряя и без того призрачно-туманные берега, разливалась сверкающая мириадами лучезарных слов эпическая река; всё невозможней становилось утихомирить полюбивших вольно-безбрежную размножизнь героев, и заблудившийся, потерявший даже тень контроля над ними повествователь, махнув мокрой рукой, отчего далеко-далеко разлетелись сверкающие капли, сосредоточился на философско-поэтических интерлюдиях, знаменующих две главные фазы жизни и по-простому именуемых «Пространствие» и «Оплыв»…
— А о чем всё-таки твой роман, Квазид? Если в двух словах… — почти застенчиво спросил Пончо, и Лактанций изумлённо уставился на него.
— В двух словах? Хм-м… — пожевал губами Квазид, любивший как раз всё сложное и неоднозначное. — Видишь ли, после любого моего ответа можно будет спросить — а о чем твой роман на самом деле?
— И о чем же твой роман на самом деле — на твой взгляд, разумеется! — подыграл Лактанций.
— Так я же ещё не ответил… Хотя ладно! Для меня лично… — он обвёл друзей взглядом, выражающим некоторое сомнение в том, стоит ли им доверить то замечательное слово, которое он намеревался произнести, но, прочтя на всех лицах полнейшее внимание, кивнул и соблаговолил. — Для меня лично — о невозможности.
Эффект был рассчитанно-поразительный, но не без неожиданности: Лактанций, как и предполагалось, удивленно вздернул кустистые брови, а потом нахмурился, соображая; отлично изучивший несколько театральную квазидовскую манеру орденец едва усмехнулся; зато Пончо вдруг как-то померк на несколько мгновений, вжался в себя, словно мяч, из которого мгновенно выкачали воздух, и нечто вроде ужаса промелькнуло и погасло в его тёмных глазах. Впрочем, через несколько секунд он спросил как ни в чем не бывало:
— О невозможности? Какой именно, словомел? Невозможности бывают разные! Вот я помню, одна сладкая вдовушка…
— Пончо-о… — нежно пропел Рамон, взгляд которого обещал пофигисту хорошую трёпку, если он не заткнётся, и тот благоразумно пробормотал что вроде «ладно, в другой раз…»
— Невозможность, — произнес Квазид, и его толстое лицо озарилось огнём вдохновения, — это, друзья мои, как… гирлянды мха, вырастающие на дереве любой возможности! Как прозрачная упругая стена между тобой и миром, по которому путешествует твоя жизнь!
— И к чему тогда твой восторг? — недоверчиво осведомился Лактанций.
— А к тому, что это никак не влияет на количество и качество возможностей! Они, то есть невозможность с возможностью, как бы живут внутри друг друга, каждая сидит в другой, как глазки в картофеле!
— Хо-хо! — воскликнули Шизаяц с Алаверды, одновременно покачав головами.
— Конечно! Вы совершенно правы! Передвигаться по миру можно разными способами, например, на лошади, но главное ведь не средство передвижения! Вопрос в том, с какой стороны смотреть, путешествуя другими глазами — а это, как сказал один прачел, лучший вид путешествия… И другими чувствами, добавлю я. И дело не всегда в возрасте. Невозможность и отчаяние растут отовсюду точно так же, как возможность и чаяния, столь любимые поэтобатами!
— Старик! — от лица упомянутых поэтобатов авторитетно выступил Шизаяц. — Если бы у тебя была цельномеханическая лошадь Дре-Дре, всё бы сложилось совсем иначе!
— Слушай, Квазид, — вдруг произнес Пончо посреди задумчивости остальных, причем несколько робея, что уже было необычно. — Много раз хотел спросить… а ЗАЧЕМ ты пишешь? Ну понятно, что не из-за денег, но вроде и слава тебе особая не нужна, раз говоришь, что внимание друзей дороже…
— Друг мой Пончо, — устало улыбнулся словомел, — а зачем твои неугомонные фантазии всё время заставляют тебя искать любовных приключений?
— Ха! Да это всё равно что дышать! — Пончо с горделивой ухмылкой картинно подбоченился, а затем, хлопнув себя по ляжкам, актерски развел руки. — Я всегда был таким!
— А я вот не всегда был таким, увы… Зато теперь дышу этим — и, надеюсь, до самой смерти…
— Понятно. Ты хочешь стать не просто словомелом, но АВТОРОМ — как те древние, чьи имена дошли до нас, — авторитетно высказался Лактанций. — Квазид — АВТОР. Хм… Внушает уважение!
— АВТОР… Круто! Тебя будут читать и почитать прямо по ИМЕНИ! — у Пончо загорелись глаза от восхищения.
Бережно сняв листорыжую Охру и опустив её на пол (слабо муркнув, она тут же ушла под кресло и свернулась в покойном полумраке), Квазид грузно поднялся, уперевшись обеими руками в подлокотники, и Рамон с неожиданной грустью увидел, что пухлый словомел понемногу, одна за другой, сдает свои позиции в той незаметной ежедневной и еженощной битве, которую Жизнь ведет со своим неведомым врагом — неведомым, ибо враг затаился где-то во тьме, иногда пробираясь осторожными щупальцами по зыбкому предутреннему болоту между сном и явью, шорохом и немотой, рассудком и безумием… Битва всегда кипит с теми, кого он насылает отттуда (имя им легион) — и в этой битве Квазид уступал, сокращался, гас. Ум и язык его по-прежнему были остры, голос твёрд, остатки волос и не думали безвольно выпадать и даже топорщились и под гребнем, и под венком — но осанка, чуть больше обычного обдряблые щеки и опустившиеся углы губ, опасливая хрупкость движений (будто боишься разбить хрустальный бокал единственного и ненаглядного тела налитым в него жидким свинцом, понемногу выплавлющим изнутри живого тебя обжигающие разум узорчатые чертоги своего жуткого господина) — всё это, новое и нерадостное, было замечено и другими. Подняв голову, Квазид поймал не успевшие спрятать жалость взгляды и усмехнулся, а потом, подойдя к бюро и положив руку на его тёплое лакированное дерево, заговорил медленно, взвешивая каждое слово и глядя куда-то внутрь себя, словно весь многоцветный и непостижимый мир был сейчас его глазами, — заговорил, не давая ни одной словесной бусине упасть и потеряться, закатиться в мёртвое поддиванное царство:

Валенсия мечтала о яркой, неповторимой жизни, но как-то так вышло, что она уже который год работает коллектором на телефоне. А еще ее будни сопровождает целая плеяда страхов. Она боится летать на самолете и в любой нестандартной ситуации воображает самое страшное. Перемены начинаются, когда у Валенсии появляется новый коллега, а загадочный клиент из Нью-Йорка затевает с ней странный разговор. Чем история Валенсии связана с судьбой миссис Валентайн, эксцентричной пожилой дамы, чей муж таинственным образом исчез много лет назад в Боливии и которая готова рассказать о себе каждому, готовому ее выслушать, даже если это пустой стул? Ох, жизнь полна неожиданностей! Возможно, их объединил Нью-Йорк, куда миссис Валентайн однажды полетела на свой день рождения?«Несмотря на доминирующие в романе темы одиночества и пограничного синдрома, Сьюзи Кроуз удается наполнить его очарованием, теплом и мягким юмором». – Booklist «Уютный и приятный роман, настоящее удовольствие». – Popsugar.
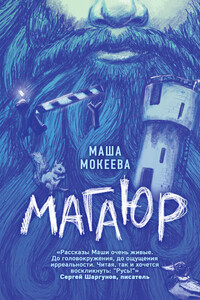
Маша живёт в необычном месте: внутри старой водонапорной башни возле железнодорожной станции Хотьково (Московская область). А еще она пишет истории, которые собраны здесь. Эта книга – взгляд на Россию из окошка водонапорной башни, откуда видны персонажи, знакомые разве что опытным экзорцистам. Жизнь в этой башне – не сказка, а ежедневный подвиг, потому что там нет электричества и работать приходится при свете керосиновой лампы, винтовая лестница проржавела, повсюду сквозняки… И вместе с Машей в этой башне живет мужчина по имени Магаюр.
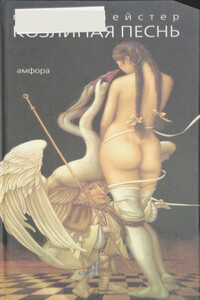
Эта странная, на грани безумия, история, рассказанная современной нидерландской писательницей Мариет Мейстер (р. 1958), есть, в сущности, не что иное, как трогательная и щемящая повесть о первой любви.
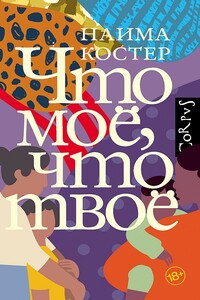
В этом романе рассказывается о жизни двух семей из Северной Каролины на протяжении более двадцати лет. Одна из героинь — мать-одиночка, другая растит троих дочерей и вынуждена ради их благополучия уйти от ненадежного, но любимого мужа к надежному, но нелюбимому. Детей мы видим сначала маленькими, потом — школьниками, которые на себе испытывают трудности, подстерегающие цветных детей в старшей школе, где основная масса учащихся — белые. Но и став взрослыми, они продолжают разбираться с травмами, полученными в детстве.

Страшная, исполненная мистики история убийцы… Но зла не бывает без добра. И даже во тьме обитает свет. Содержит нецензурную брань.

События книги разворачиваются в отдаленном от «большой земли» таежном поселке в середине 1960-х годов. Судьбы постоянных его обитателей и приезжих – первооткрывателей тюменской нефти, работающих по соседству, «ответработников» – переплетаются между собой и с судьбой края, природой, связь с которой особенно глубоко выявляет и лучшие, и худшие человеческие качества. Занимательный сюжет, исполненные то драматизма, то юмора ситуации описания, дающие возможность живо ощутить красоту северной природы, боль за нее, раненную небрежным, подчас жестоким отношением человека, – все это читатель найдет на страницах романа. Неоценимую помощь в издании книги оказали автору его друзья: Тамара Петровна Воробьева, Фаина Васильевна Кисличная, Наталья Васильевна Козлова, Михаил Степанович Мельник, Владимир Юрьевич Халямин.