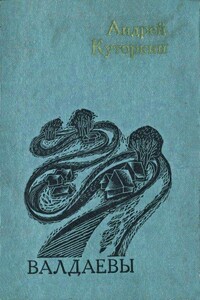— Посуду не бей, — безнадежно вставил Митин, но Глеб его не услышал.
— Хватит бояться собственной тени! Исходить потоком благородных слов и молча терпеть, когда все эти ремезовы и иже с ними залезают к нам в карман! Рвут подметки на ходу!
«Опять за свое принялся, — вчуже подумал Иннокентьев, — его кашей не корми, дай повоевать с ветряными мельницами… Ему-то как раз в карман никто и не залезет по той простой причине, что все знают, что у него давно за душой ни гроша. А решительные поступки он совершает только тогда, когда ходит с десятки бубен или объявляет пас. Но мы все равно внимаем ему как зачарованные и без него, пожалуй, почувствовали бы себя казанскими сиротами…» А вслух сказал нетерпеливо:
— Это все мы уже сто раз от тебя слышали. И насчет Ремезова мнение у всех достаточно единодушное, можешь не стараться. Игорь прав — что делать? Что каждый из нас может сделать?
— Вот именно! — подхватил с облегчением Митин, — Что мы можем?
— Вы хотите сказать — ничего?! — выскочил из своего угла Дыбасов. Слабые, хилые его ручки были сжаты в кулаки, и на них вздулись жесткие жилы, — Тогда зачем весь этот огород смехотворный городить с этими вашими страданиями, воплями, с этой жратвой, от которой дуреешь только?!
И опять забегал из угла в угол.
Митин смотрел на него затравленными глазами, и Иннокентьев подумал: «Что, если я все же откажусь от участия в этой катавасии со „Стоп-кадром“?.. А ведь они, и Дыбасов в том числе, Дыбасову это нужнее, чем всем остальным, только на меня и рассчитывают, один я могу попытаться что-нибудь сделать, — интересно, что он тогда запоет, этот доморощенный гений, Вольфганг Амадей этот со стиснутыми от бессилия кулачками, с него мигом слиняет вся его спесь…»
— Можно! — протрубил иерихонской трубой Ружин. — И должно! Надо только, чтобы эти двое виновников торжества, — он повел всклокоченной бородой в сторону Митина и Дыбасова, — не наделали в последнюю минуту в штаны. Не говоря уж о тебе, — покосился на Иннокентьева. — Больше ничего от вас всех и не требуется.
— Ну знаете! — бросил возмущенно на бегу Дыбасов.
Митин никак не реагировал, только устало прикрыл глаза ладонью.
— Так, — пресек краснобайство Глеба Иннокентьев, — Вопрос о полках, так сказать, правой и левой руки можно считать решенным — от них требуется всего лишь стоять насмерть, гвардия умирает, но не сдается. Насколько я понимаю Глебову диспозицию — в центре боя предполагается стоять мне. Так?
— Дмитрий Донской… — недовольно пробурчал Ружин, явно раздосадованный, что у него перехватили из рук верховное главнокомандование.
— Итак, что требуется от меня? — спросил его Иннокентьев в упор.
Дыбасов прервал свой беличий бег в колесе, кинул худое, костистое тело на стул у дальней стены, мрачно молчал, всем своим видом показывая, что лично он ничего хорошего от этого совета в Филях не ждет, и, что бы они ни порешили, он оставляет за собой свободу действий.
— Есть лишь одно бесспорное средство, — ответил за всех Ружин.
— Бесспорное… — недоверчиво пожал плечами Митин и отвернулся к окну.
Там уже стояла полная темень, и лишь фонарь, висевший на крыльце, празднично выхватывал из нее наряженную елку.
Слышно было, как смеются за затворенной дверью женщины, громче всех Эля, и Иннокентьеву пришло на ум — какого черта он сидит здесь и обсуждает до бесконечности то, до чего ему, честно говоря, нет никакого дела, вместо того чтобы быть с ней, любить ее и оберегать? А ведь именно о помощи и защите молили ее глаза, когда она за обедом встречалась с ним взглядом… Помощи — в чем? Защиты — от чего?..
Он плохо слышал, что говорил, рокоча басом, Ружин:
— …кстати говоря, мне бы это и в голову не пришло, не я это придумал, а Настя, только женский ум мог до этого додуматься. И все оказалось предельно просто.
— Просто… — опять простонал Митин, уставясь за окно.
— Ремезов вернется из Югославии не скоро, пока его нет — руки у нас развязаны…
— У нас — это значит: у меня? — Иннокентьева злило, что они обо всем договорились без него и за его спиной, ему отводилась всего-навсего роль послушного орудия.
Ружин будто и не услышал его.
— Тут главное — не терять ни минуты. Ты, — ткнул он указующим перстом в Иннокентьева, — снимаешь для своего «Антракта»…
— Вот и мой «Антракт» пригодился… — усмехнулся тот, но и его усмешка была тоже оставлена без внимания.
— …снимаешь репетицию «Стоп-кадра» и берешь у Дыбасова и у артистов интервью, из которого ясно, что Ремезов к спектаклю не имеет ни малейшего отношения. Черным по белому! И после того как передача выйдет в эфир и факт будет раз и навсегда засвидетельствован, он сможет нам только соли на хвост насыпать — поезд ушел. Все проще пареной репы!
Наступило долгое молчание. Иннокентьев понимал — они ждут, что скажет он.
А он не знал, что сказать. Нет, его отношение к тому, что собирался Ремезов сделать со спектаклем Дыбасова, было недвусмысленным, в этом он с ними со всеми нисколько не расходится, и план, сочиненный Ружиным — или Венгеровой, это ничего не меняет, — действительно разумен и прост. Но, в отличие от них всех, Иннокентьев знал, что это только со стороны план этот прост и немудрящ, а на самом деле между тем, чтобы снять любой сюжет для «Антракта», и тем, чтобы выпустить его на экран, дистанция не в дни, а в недели, даже в месяцы, а за это время Ремезов успеет не только вернуться в Москву и обо всем узнать, но и нажать на все кнопки, зазвонить во все колокола, сил и связей у него предостаточно, чтобы постоять за себя и стереть в порошок не только Дыбасова, но и Митина. И его, Иннокентьева, в придачу. Его-то прежде всех остальных — хотя бы потому, что именно его, Иннокентьева, руками они и собирались загребать жар.