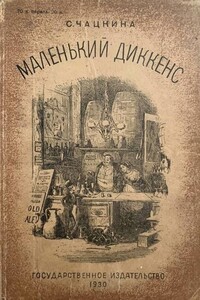Аня побежала к Альдоне.
— Вот, нашла, нашла! — кричала она.
Но разглядывать находку некогда было: надо было спешить в Дом отдыха. Там Аню уже искала мама:
— Где ты пропадала? Садись скорей!
Аня села в машину. Автобус тронулся. Ребята побежали за ним.
— До свиданья, Пятрас, до свиданья, Альдона, до свиданья, все! — кричала Аня и махала зажатым в кулаке янтарём.
И только когда сели в поезд и немного успокоились, Аня разжала вспотевший кулак и показала маме находку.
— Вот! — гордо сказала она. — Папе!
— Ого, какой большой! Где нашла?
— В море.
— В море? — удивилась мама. — А почему он такой гладенький?
— Это его море так отгладило.
— А почему здесь дырочки?
— Какие дырочки?
Аня схватила янтарь, поднесла к глазам и увидела три маленькие дырочки от трёх малюсеньких гвоздиков:
— Постой!
Она посмотрела на свет. Так и есть! В прозрачном янтарном меду как будто плавали две песчинки: одна побольше, другая поменьше.
Что было делать? Не останавливать же поезд!
Так Аня и увезла в Москву янтарную лепёшечку на память о девочке Альдоне и мелком — Ане по пояс — Балтийском море.
Весной я поехал в деревню рисовать, по-нашему — на этюды.
И вот после ночи в поезде я очутился на маленькой станции. За спиной у меня висели рюкзак и ящик для красок, по-нашему — этюдник.
Сонный сторож лениво шаркал метлой. Пусто: ни лошадей, ни машин.
— Все в поле, на посевной, — объяснил он.
— А далеко ли до Лепешихи?
— Близко, километров двадцать… Пойдёшь всё прямо. Сначала будет Шепелиха, а за ней — Лепешиха.
Я зашагал по дороге. Шумели берёзы, пахло черёмухой, травами, землёй… Солнце поднималось. Стало жарко. Мне захотелось пить. Где взять воды?
Всё так же тянулось бесконечное поле, всё так же шелестели берёзы, всё так же дорога шла то вверх, то вниз, то вверх, то вниз.
«Бочку выпил бы!» — мечтал я. Рюкзак и этюдник тяжелели с каждым шагом.
Наконец, поднявшись на холм, я увидел деревню. Я прибавил шагу, вошёл в крайнюю избу, нащупал в тёмных сенях дверь и приоткрыл её.
Мальчишка лет пяти стоял за дверью. Он выкатился на меня. Я подхватил его. Он стал вырываться.
Девочка постарше кинулась к нему.
— Никого нету дома, — сказала она. — Васенька, не плачь!
— А я вовсе не плачу, — сказал Вася и смело уставился на меня голубыми глазами.
— Ребятки, мне никого не надо. Мне бы только напиться водички.
— А ты кто? — вдруг спросил Вася. — Пастух?
— Нет, не пастух.
Я снял с плеча этюдник и раскрыл его.
— Ой, какие! — обрадовался Вася. — Синенькие, красненькие, зелёненькие!.. Танькая Танька, сколько красков!
Таня подала мне воды. Я стал пить. Я выпил три кружки и ещё половинку.
— Пейте, — сказала Таня, — нам не жалко.
— Будет, спасибо.
Я кивнул на дверь. Она вся была покрыта меловыми линиями, человечками, домиками и загогулинами.
— А это кто рисовал?
Таня смутилась и схватила тряпку:
— Это мы с Васькой… Я мел из школы принесла… Это мы так.
А Вася стал совать мне в руки мелок:
— Дяденька, нарисуй нам чего-нибудь, ладно?
Я взял мелок:
— Что ж вам нарисовать?
— Лошадку, — не задумываясь, ответил Вася.
— Чтоб стояла или чтоб бежала?
Вася посоветовался с сестрой:
— Чтоб бежала.
Я стал рисовать. Я очень старался. Мне хотелось нарисовать так хорошо, как только умею. Таня с Васей сопели за моей спиной.
Я представил себе мчащегося галопом коня. Шея его вытянута. Хвост и грива развеваются по ветру. Острые копыта рассекают воздух.
Мелок скрипел и крошился. Я стирал неверные линии, поправлял, а когда закончил, почувствовал настоящую усталость и с жадностью допил кружку.
Лошадка получилась хорошо, мне самому понравилась. Ребята смотрели на меня точно на волшебника. Я стал собирать свои пожитки, но Вася обнял меня за ногу:
— Дяденька, ещё нарисуй, ещё!..
— Нет, друзья, надо идти. Всего хорошего!
И я снова зашагал по дороге.
К вечеру я добрался до Лепешихи и поселился в Лепешихинском бору, у старого лесника.
Старик очень любил своё дело. Целыми днями он всё бродил по лесу, а по вечерам уговаривал меня:
— Сынок, бросай своё художество, переходи на лесное ремесло. Я тебя обучу, будешь мне помощником. Гляди, у нас лес какой — красный, мачтовый, сосна к сосне!
Я отвечал, прислушиваясь к лесному шуму за окном:
— Надо подумать, Игнат Петрович… Не сразу, Игнат Петрович…
Старик не отступал:
— Вернёшься в Москву — подавай в Лесной институт. Дадут тебе звание, форму наденешь, дом поставишь себе…
Четыре месяца я прожил у него, и все четыре месяца он меня уговаривал. Мне не хотелось обижать старика, и я делал вид, будто на самом деле соглашаюсь идти в лесничие.
Когда я осенью собрался уезжать, он даже заложил свою двуколку:
— Так и быть, сынок, подвезу тебя до станции. Всё-таки будущий лесничий…
Я уложил сделанные за лето картинки, и мы покатили по знакомой дороге.
Берёзы теперь были разные: ярко-жёлтые, оранжевые, красные… Поле было убрано. В деревне шумела молотилка. Ветер донёс до нас обрывки соломы, кусочек песни:
Полюшко, поле,
Полюшко, широко поле…
Вдруг за нами погнался мальчишка. Сквозь пыль мелькали красная рубаха, взлохмаченная голова:
__ Дяденька-а!.. Погоди-ите!..
Игнат Петрович придержал коня. Мальчик подбежал, запыхавшись:




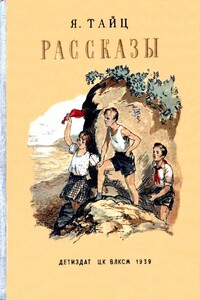
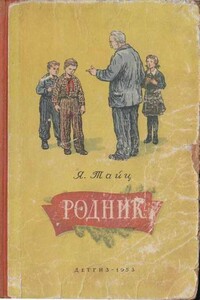

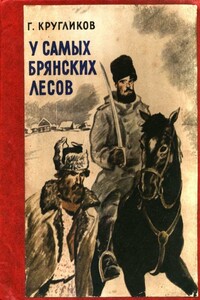

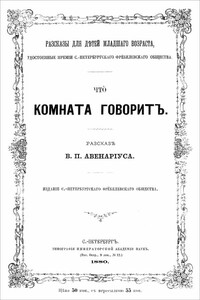
![Девять возвращений [Повести и рассказы]](/storage/book-covers/ed/ed7af831d7446cc273c19395f0b07a748a40724c.jpg)