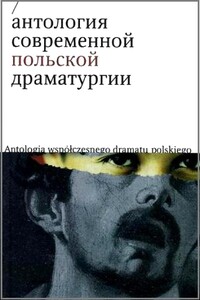Антология современной французской драматургии. Том II - [103]
>Пауза.
>Кладет письма рядом с собой на скамейку. Достает из чемоданчика черную тетрадь, кладет ее на скамейку рядом с письмами.
Здесь — одна только правда и ничего кроме правды.
Записки, но не такие, которые пишут, чтобы как-то занять время, хотя уж чего-чего, а времени мне не занимать — к тому ж я не из тех, кто боится смерти, во всяком случае, не настолько, чтобы пытаться втиснуть время в страницы, запихнуть его в клетку, помешать ему творить черт знает что, — вовсе нет.
Пруст, как мне кажется, был еще тем трусом, вон сколько всего понаписал, а ночи его, судя по всему, были похожи на огромный дырявый занавес, а в дырках — лучи света, и свет этот — время, все потерянное время, — только я это от балды говорю, сам я Пруста не читал, просто я его так вижу, Пруста, я хочу сказать.
Я лично пишу записки независимо от того, есть смерть или нет, плевать я на нее хотел, я пишу, чтобы ускорить бег времени, а смерть для меня — что те чертовы райские птицы, которых и на свете-то не бывает, хрен с ними со всеми, раз их нет, я люблю то, что есть и что я могу видеть своими собственными глазами, потому что то, что есть — большая редкость, я имею в виду вещи, про которые без малейшей доли сомнения можно сказать, что они есть, они так редки, что их просто надо в музее показывать, — а я всего лишь не хочу говорить сам с собой, не могу говорить сам с собой, не желаю, чтобы пустота вокруг меня прислушивалась к тому, что я говорю, и чтобы она была единственным моим слушателем, я не хочу, чтобы она, как танцовщица-зазывала в кабаре, из жалости угостила меня стаканчиком, не хочу, не хочу прятаться в одинокую пустоту как в уютное гнездышко, потому что это большая редкость — то, что существует и не вызывает сомнений в своем существовании.
Я вот, к примеру, вовсе не уверен, что существую, уже не уверен, а все из-за моей опухшей физиономии — одно слово, боксер на ринге, — и еще из-за этой чертовой ночи, которой нет конца и краю, и из-за этого тоннеля, в котором свет даже не брезжит, из-за всех этих джинов вперемешку вискарем — пьешь-пьешь, а кого обогнать хочешь, сам себя? Никуда-то я отсюда не двинусь, даже с места не встану, покуда не найду хоть кого-то, кому можно сказать правду, выложить всю правду-матку как есть, потому как ведь надо же когда-нибудь ее сказать, хоть раз в жизни, хоть какому ни то незнакомцу, которого и в глаза-то никогда не видел, тогда это будет действительно откровенное признание, — хоть раз в жизни надо заглянуть внутрь себя и рассказать все как есть — эх-ма, а так все хорошо начиналось.
Тебя, моя девочка, мой коварный эльф, уже затянуло в трубу, соединенную с самолетом, с твоим самолетом, а у меня-то и нет никакого самолета, и я как раз собирался тебе сказать, что не лечу, что остаюсь здесь, потому что я здесь живу — живу я тут, понимаешь, — по субботам я обычно весь день смотрю, как в аэропорту Барахас взлетают и садятся самолеты, я как раз собирался тебе это сказать, но ты не дала мне, я не успел, как ни торопился… это уже эксгибиционизм последнего разряда.
Никуда-то я не лечу, ведьмочка ты моя, и в том моя беда. (Достает из чемодана камень, бело-зеленый. Кладет его рядом с собой на скамейку, посадка тем временем заканчивается, гейт закрывается.)
Ну вот, никого не осталось, все ушли, всех затянуло в эту прозрачную кишку между аэропортом и самолетом, а я на нем не полечу и не заблюю его, я только молюсь, чтоб этот распухший бурдюк, накачанный водой, описавшись, не покраснел как рак, а вел себя как ни в чем не бывало, точно с ним это случается ежедневно, и это бы никого не смутило, а я ничего общего не желаю иметь с этим ублюдком.
Ну вот, что еще?
И поговорить-то не с кем.
Опять один.
>Пауза.
>Смотрит на бело-зеленый камень, лежащий рядом на скамейке.
Вот ты.
Теперь я буду говорить с тобой, потому что с камнями жить легче — легче, чем с женщинами, я имею в виду: женщины натравливают волков друг на друга, а камень, талисман который, — ему можно доверять. Я вот, к примеру, тебе доверяю. Я верю в свой камень. И всюду ношу тебя с собой. На Плаза-Тирсо-де-Молина тебя обкакал голубь. Я отмыл тебя под краном, отскреб ногтями. Теперь ты чистый. Тут уж от меня зависит. Я говорю, что настанет день и ты вытащишь меня отсюда — и не будет больше суббот в Барахасе, воскресений в Ретиро и понедельников в Чуэка, вторников и сред на Гран-Виа и четвергов на Кале-де-Лас-Хуертас. С пятницей по-разному выходит, на пятницы я не строю никаких планов, а просто шатаюсь по Мадриду с этим красным саквояжем в руке, с бело-зеленым булыжником внутри и моим счастьем, которое внутри этого булыжника и которое покамест дремлет. Но однажды я разорву цепь этих недель, и дни рассыплются свободной пригоршней и повлекут меня куда им вздумается. И однажды появится кто-то, за кем я решу последовать, или кто-то, кто пойдет за мной, — как за мной следовала она, следовала до определенного момента, — и тогда цепочка недель будет складываться наугад и наудачу, как получится, потому что, следуя друг за другом, мы запутаем следы и будем идти куда глаза глядят, один за другим, не выясняя, кто впереди, а кто сзади, и дни будут следовать за нами, и ты увлечешь меня далеко-далеко, как она меня увлекала — жена, я хочу сказать, моя жена — своими письмами, своими прозрачными глазами, своим Эверестом и страхом потерянного времени. Я говорю тебе «ты», через этот камень говорю тебе «ты» — он столько таит в себе обещаний, этот камень. Вот, например, однажды я встретил на Плаза-Тирсо-де-Молина одного китаезу, он спросил дорогу, а я ему — слушай, парень, я не местный, тогда он решил впарить мне часы, а дорогу он лучше меня знал, и мы на этой самой площади до коликов с ним ржали — это было через неделю, не больше, после нашего приезда сюда, через неделю после того, как она смоталась, бросив меня, моя здешняя жена, я имею в виду, — на ней было просторное бежевое пальто с темными карманами по бокам, а этикетка — она все жаловалась вечно царапала ей шею, — в общем, она уехала, а сама все терла шею, улетела в огромном бежевом самолете, похожем на этот, — а я вот пытаюсь говорить «ты», а сам говорю «она» и живу тут, хотя я не отсюда, — я ведь не местный, я только живу здесь.
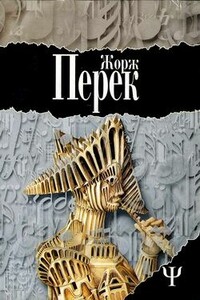
Сказать, что роман французского писателя Жоржа Перека (1936–1982) – шутника и фантазера, философа и интеллектуала – «Исчезновение» необычен, значит – не сказать ничего. Роман этот представляет собой повествование исключительной специфичности, сложности и вместе с тем простоты. В нем на фоне глобальной судьбоносной пропажи двигаются, ведомые на тонких ниточках сюжета, персонажи, совершаются загадочные преступления, похищения, вершится месть… В нем гармонично переплелись и детективная интрига, составляющая магистральную линию романа, и несколько авантюрных ответвлений, саги, легенды, предания, пародия, стихотворство, черный юмор, интеллектуальные изыски, философские отступления и, наконец, откровенное надувательство.

На первый взгляд, тема книги — наивная инвентаризация обживаемых нами территорий. Но виртуозный стилист и экспериментатор Жорж Перек (1936–1982) предстает в ней не столько пытливым социологом, сколько лукавым философом, под стать Алисе из Страны Чудес, а еще — озадачивающим антропологом: меняя точки зрения и ракурсы, тревожа восприятие, он предлагает переосмысливать и, очеловечивая, переделывать пространства. Этот текст органично вписывается в глобальную стратегию трансформации, наряду с такими программными произведениями XX века, как «Слова и вещи» Мишеля Фуко, «Система вещей» Жана Бодрийяра и «Общество зрелищ» Г.-Э. Дебора.
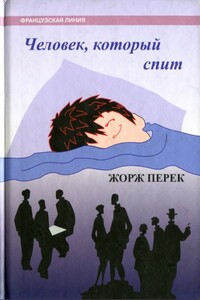
Третье по счету произведение знаменитого французского писателя Жоржа Перека (1936–1982), «Человек, который спит», было опубликовано накануне революционных событий 1968 года во Франции. Причудливая хроника отторжения внешнего мира и медленного погружения в полное отрешение, скрупулезное описание постепенного ухода от людей и вещей в зону «риторических мест безразличия» может восприниматься как программный манифест целого поколения, протестующего против идеалов общества потребления, и как автобиографическое осмысление личного утопического проекта.

рассказывает о людях и обществе шестидесятых годов, о французах середины нашего века, даже тогда, когда касаются вечных проблем бытия. Художник-реалист Перек говорит о несовместимости собственнического общества, точнее, его современной модификации - потребительского общества - и подлинной человечности, поражаемой и деформируемой в самых глубоких, самых интимных своих проявлениях.
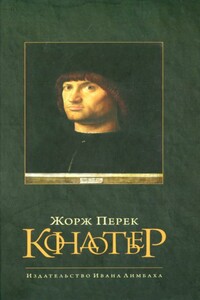
Рукопись романа долгое время считалась утраченной. Через тридцать лет после смерти автора ее публикация дает возможность охватить во всей полноте многогранное творчество одного из самых значительных писателей XX века. Первый законченный роман и предвосхищает, и по-новому освещает всё, что написано Переком впоследствии. Основная коллизия разворачивается в жанре психологического детектива: виртуозный ремесленник возмечтал стать истинным творцом, победить время, переписать историю. Процесс освобождения от этой навязчивой идеи становится сюжетом романа.

Роман известного французского писателя Ж. Перека (1936–1982). Текст, где странным и страшным образом автобиография переплетается с предельной антиутопией; текст, где память тщательно пытается найти затерянные следы, а фантазия — каждым словом утверждает и опровергает ограничения литературного письма.
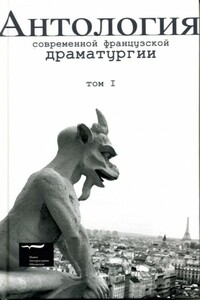
В сборник вошли пьесы французских драматургов, созданные во второй половине XX века. Разные по сюжетам и проблематике, манере письма и тональности, они отражают богатство французской театральной палитры 1960—1980-х годов. Все они с успехом шли на сцене театров мира, собирая огромные залы, получали престижные награды и премии. Свой, оригинальный взгляд на жизнь и людей, искрометный юмор, неистощимая фантазия, психологическая достоверность и тонкая наблюдательность делают эти пьесы настоящими жемчужинами драматургии.
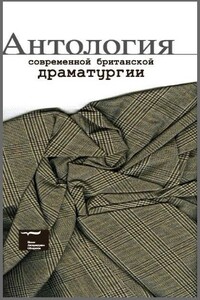
В Антологии современной британской драматургии впервые опубликованы произведения наиболее значительных авторов, живущих и творящих в наши дни, — как маститых, так и молодых, завоевавших признание буквально в последние годы. Среди них такие имена, как Кэрил Черчил, Марк Равенхил, Мартин МакДонах, Дэвид Хэроуэр, чьи пьесы уже не первый год идут в российских театрах, и новые для нашей страны имена Дэвид Грейг, Лео Батлер, Марина Карр. Антология представляет самые разные темы, жанры и стили — от черной комедии до психологической драмы, от философско-социальной антиутопии до философско-поэтической притчи.