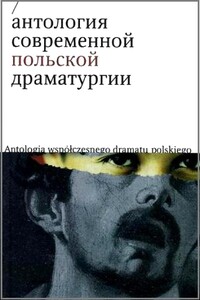Антология современной французской драматургии. Том II - [102]
Я буду говорить тебе о любви на всех языках, которые знаю, пока эти языки не иссякнут, пока не найду твой язык.
И не думай, пожалуйста, что я вдарился в лингвистику для отвода глаз, а на самом деле мне страсть как охота поцеловать тебя взасос и почувствовать твой реальный язык, этот сочный и упругий кусок мяса, пока ночь еще липнет по закоулкам аэропорта, а самолеты похожи на ночных птиц и взлетное поле все во мгле и тумане, совсем как я сам, и все кругом серое, что кошки ночью, и ты меня в упор не видишь, и вообще, блин, ты встаешь.
>Пауза.
Блинский еж.
Ты отозвалась на приглашение девицы в громкоговорителе, которая в очередной раз объявила посадку на наш самолет, то есть на твой самолет, потому что ты встала, а в руке у тебя зеленый чемоданчик — ну прям кусок зеленого луга — и идешь к гейту, который указала девица.
Нет, я не сдвинусь с места, прежде всего потому, что, когда ты встала, скамейка устрашающе заскрипела, и плевать я хотел на то, из какой ты страны и какой особенный вкус у твоего языка, и нужна ты мне как прошлогодний снег, моя дорогуша, моя красавица, мое пустое место, потому что росточком ты, оказывается, не вышла, и вообще любовь — это чушь собачья на постном масле, а уж моя любовь и подавно, ниже плинтуса, а ты пока что заняла место в очереди на посадку.
Ты достала паспорт, а чувак с минералкой тут же пристроился рядом, вон он, что-то у тебя спрашивает и показывает свой паспорт, и ты, ты тоже показываешь ему свой, вы смотрите друг другу в паспорта, — а я вот думаю, какого черта надо показывать паспорт, если ты с человеком не знаком, это ведь тебе не хухры-мухры, ведь там всёшеньки про тебя прописано, имя-фамилия-где-родился и все границы, которые ты за последние годы пересекал, и куча всяких штемпелей и печатей, доказывающих, что ты действительно летал на самолетах, менял часовые пояса, переживал моменты безвременья и потерянности, когда цепляешься за буй как за последнюю надежду, — короче, весь ты в своем паспорте как на ладони — и ты показываешь все это глушителю минералки. Сказать, что я об этом думаю? Этому палец в рот не клади, оттяпает, а сам в лес, как говорится, так и смотрит, значит, долго не задержится, вот тебе вся правда-матка.
Он аж расплылся, глядя на твою фотку, ты тоже улыбаешься, разглядывая евойную, и если он сейчас не описается, то у него, видать, крепкие нервы, я бы давно уж сблевал от стольких проявлений любви: и паспорт нараспашку, и ты там вся «извольте пожалуйста», без стыда и стеснения, и улыбка в придачу, черт подери, обворожительная улыбка анфас из разряда «солнце из-за тучки», — а я тут, понимаешь, созерцаю собственные штиблеты и красный саквояж и истекаю, можно сказать, кровью, и у крови вкус картона, и башка вращается так, что все плывет… А про шлюх на Гран-Виа я вспомнил исключительно, чтобы тебе досадить, и даже утверждаю, что это лучшее, что есть на свете, а ты им и в подметки не годишься, тебе до них еще учиться и учиться надо, а этот оплывший пузырь с водой, ему тоже рядом с ними делать нечего, от одного его вида с души воротит, — а ты, от одного твоего вида голова идет кругом, ну да будет об этом.
Все, голова встала на место, а Дон Кихот на тебя и смотреть бы не стал.
Ты когда поднялась, под тобой скамейка застонала, и ничего в тебе нет особенного, телки на Гран-Виа те хоть ласковые, а тебя не научили даже «спасибо» говорить.
>Пауза.
Останусь сидеть.
Иди в свой самолет, показывай кому хошь свой паспорт.
Пойди трахнись с этим типом.
Подержи ему пиписку, чтоб писал куда надо, только учти, это дело непростое.
Лучше если ты позовешь на помощь пожарных — он столько высосал, этот бугай, что его шланг так просто не удержишь, тут без пожарных не обойтись, моя девочка.
Может, ты сама пожарный, может, ты чужестранка, может, даже ты супервумэн, но это уже ничего не меняет, я остаюсь.
А я привык.
Привык оставаться.
>Пауза.
Ты, поди, думаешь, я что ни день на самолетах летаю, что мне куда-то на край света приспичило, что я эти границы пачками перелетаю, да? А вот и нет.
Вся моя жизнь помещается в этом красном чемоданчике — вот тебе про меня вся правда, детка. (Берет свой чемодан, кладет его на колени, открывает. Достает оттуда пачку писем, перевязанную голубой лентой.)
Никто не писал таких писем, как она. Моя жена, я хочу сказать: когда-то у меня была жена, то есть она была моей женой. Никто не писал как она — целый день все письма, письма. Дневные письма: она писала их — как зонтик протягивала, будто хотела защитить меня от всего на свете — чтобы мне грустно не было, чтоб усталость не давила, чтобы жизнь тошной не казалась, — такие вот письма-зонтики. А ночные письма — это был черный полог над Млечным путем, пенка в кастрюле с черным молоком, пульт управления сновидениями — чтобы их распознать и различить, — голос, ведущий сквозь тьму, стакан молока на ночь страх отогнать, спасение от этой муторной жизни, в которой тебе того гляди на голову метеорит какой-нибудь свалится — вот что такое были ее ночные письма. Пенка на Млечном пути.
Читать ее письма было все равно что лезть на Эверест, потому что это были кипы страниц, в них надо было погружаться, как в Пруста или Лопе де Вегу, гиблое дело, — я терялся в ее письмах, написанных днем, терялся в тех, что она писала ночью и которые подавала как сокровенные признания: невысказанные тайны, поведанные тайны — вот какие у нас были отношения.
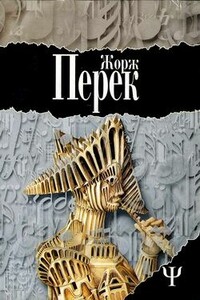
Сказать, что роман французского писателя Жоржа Перека (1936–1982) – шутника и фантазера, философа и интеллектуала – «Исчезновение» необычен, значит – не сказать ничего. Роман этот представляет собой повествование исключительной специфичности, сложности и вместе с тем простоты. В нем на фоне глобальной судьбоносной пропажи двигаются, ведомые на тонких ниточках сюжета, персонажи, совершаются загадочные преступления, похищения, вершится месть… В нем гармонично переплелись и детективная интрига, составляющая магистральную линию романа, и несколько авантюрных ответвлений, саги, легенды, предания, пародия, стихотворство, черный юмор, интеллектуальные изыски, философские отступления и, наконец, откровенное надувательство.

На первый взгляд, тема книги — наивная инвентаризация обживаемых нами территорий. Но виртуозный стилист и экспериментатор Жорж Перек (1936–1982) предстает в ней не столько пытливым социологом, сколько лукавым философом, под стать Алисе из Страны Чудес, а еще — озадачивающим антропологом: меняя точки зрения и ракурсы, тревожа восприятие, он предлагает переосмысливать и, очеловечивая, переделывать пространства. Этот текст органично вписывается в глобальную стратегию трансформации, наряду с такими программными произведениями XX века, как «Слова и вещи» Мишеля Фуко, «Система вещей» Жана Бодрийяра и «Общество зрелищ» Г.-Э. Дебора.
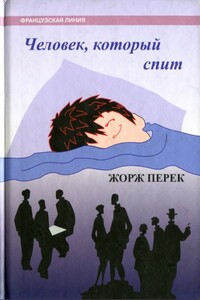
Третье по счету произведение знаменитого французского писателя Жоржа Перека (1936–1982), «Человек, который спит», было опубликовано накануне революционных событий 1968 года во Франции. Причудливая хроника отторжения внешнего мира и медленного погружения в полное отрешение, скрупулезное описание постепенного ухода от людей и вещей в зону «риторических мест безразличия» может восприниматься как программный манифест целого поколения, протестующего против идеалов общества потребления, и как автобиографическое осмысление личного утопического проекта.

рассказывает о людях и обществе шестидесятых годов, о французах середины нашего века, даже тогда, когда касаются вечных проблем бытия. Художник-реалист Перек говорит о несовместимости собственнического общества, точнее, его современной модификации - потребительского общества - и подлинной человечности, поражаемой и деформируемой в самых глубоких, самых интимных своих проявлениях.
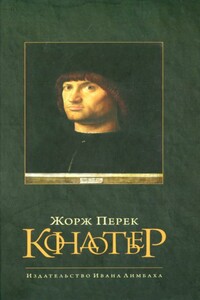
Рукопись романа долгое время считалась утраченной. Через тридцать лет после смерти автора ее публикация дает возможность охватить во всей полноте многогранное творчество одного из самых значительных писателей XX века. Первый законченный роман и предвосхищает, и по-новому освещает всё, что написано Переком впоследствии. Основная коллизия разворачивается в жанре психологического детектива: виртуозный ремесленник возмечтал стать истинным творцом, победить время, переписать историю. Процесс освобождения от этой навязчивой идеи становится сюжетом романа.

Роман известного французского писателя Ж. Перека (1936–1982). Текст, где странным и страшным образом автобиография переплетается с предельной антиутопией; текст, где память тщательно пытается найти затерянные следы, а фантазия — каждым словом утверждает и опровергает ограничения литературного письма.
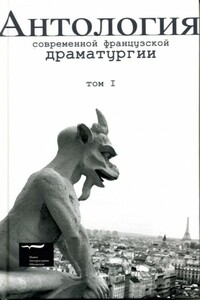
В сборник вошли пьесы французских драматургов, созданные во второй половине XX века. Разные по сюжетам и проблематике, манере письма и тональности, они отражают богатство французской театральной палитры 1960—1980-х годов. Все они с успехом шли на сцене театров мира, собирая огромные залы, получали престижные награды и премии. Свой, оригинальный взгляд на жизнь и людей, искрометный юмор, неистощимая фантазия, психологическая достоверность и тонкая наблюдательность делают эти пьесы настоящими жемчужинами драматургии.
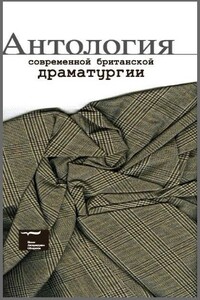
В Антологии современной британской драматургии впервые опубликованы произведения наиболее значительных авторов, живущих и творящих в наши дни, — как маститых, так и молодых, завоевавших признание буквально в последние годы. Среди них такие имена, как Кэрил Черчил, Марк Равенхил, Мартин МакДонах, Дэвид Хэроуэр, чьи пьесы уже не первый год идут в российских театрах, и новые для нашей страны имена Дэвид Грейг, Лео Батлер, Марина Карр. Антология представляет самые разные темы, жанры и стили — от черной комедии до психологической драмы, от философско-социальной антиутопии до философско-поэтической притчи.