Аноним - [20]
Какой‑то сумасшедший сдает прижизненного Вольтера, 1757 год, повести, а я беру у знакомой продавщицы два романа Агаты Кристи за 25. Жене. Привычная плата за тихие вечера. Теперь можно не торопиться. В пять — кафедра, и я пешком иду в институт. Оглядываюсь по сторонам. Пусто. Как‑то очень знакомо пусто. Нет, вон — собачка бежит. Черненькая. Наверно, болонка.
Завод еще не кончился.
Сумерки. Осень. Белый шар, обдающий меня холодом, медленно всплывает из воды, превращая все вокруг в океан.
Вот — это уже спина огромного, несущегося в волнах кита, а вот — белесый, лишенный горизонта материк.
Почему‑то все начинается именно с осени. Я не сумасшедший. Я сам воображаю все это. Но необъяснимое присутствие осени волнует так же, как необъяснимость всей этой картины. Я не знаю, что это такое, и постоянно возвращаюсь к нему. Скорее всего, это — мои мысли. Но не о себе, не о других. Мысли вне времени и, уж конечно, не о смерти. Я не знаю, о чем это, и все время думаю.
В принципе у меня все давно готово. Но в последний момент возникает неожиданная трезвость, и мне кажется, что я сошел с ума. Сумасшествием кажется и домик, который я купил втайне от жены, и мое желание скрыться в нем, пока все это не кончится. Безумным кажусь и я сам со своей больной печенью, которая, я знаю, незаметно отравляет мой мозг. Но поостыв, я понимаю, что это не так. Я не сумасшедший. В том‑то и дело, что я — не сумасшедший.
В гардеробе опять перегорел свет, и все ходят в пальто. В подвале, у совершенно пустых вешалок, в ностальгическом освещении маленькой лампочки сидит пенсионерка в халате.
Только в институте и в больнице так странен и случаен человек, а запустение и ветхость так закономерны и привычны. Когда я вижу многолетние трещины на потолке, отвалившуюся штукатурку, аудитории, выкрашенные в цвет общественного туалета, темную от старости мебель, заляпанную инвалидными бирками; когда взгляд мой привычно скользит по нелепым портретам и еще более нелепым лозунгам; когда в мрачном коридоре на меня смотрят с кумачовой доски пошло–доверительные фотографии; когда назойливо лезут в глаза бесчисленные списки, расписания, объявления, газетки и стенды, создающие впечатление повальной и неутомимо прогрессирующей шизофрении; когда я думаю, наконец, о судьбе работавших здесь за долгие годы людей, большинство из которых превращается через 10–15 лет в лысеющих скопцов и затравленно–добродушных сиделок, — тогда мне кажется, что все это — ошибка. Ошибка давняя, едва ли не века Просвещения. Она‑то и заставляет так мучаться неизвестностью и так болезненно сомневаться во всем. Во всем, кроме этой пенсионерки у лампы с приросшей к руке чашкой. Ей никогда не допить свой чай, никогда не дожевать бутерброд, никогда не дочитать раскрытую перед ней книгу. Как незаметно состарившаяся Данаида, наполняющая в царстве теней бездонный сосуд, она кажется таким же неотъемлемым призраком этого здания, как и табличка со словом "институт".
Шестой час. Заседание кафедры еще не начиналось. Все у телевизора — опять политика. Дамы разливают чай, мужчины шутят. В общем — все ясно. Я начинаю злиться, понимая, что это надолго, и убеждаю себя, что тороплюсь в редакцию, на встречу с иностранцами. Я даже собираюсь отпроситься, но отчего‑то медлю. Словно чего‑то жду. Я уже догадываюсь чего и стараюсь собраться, но это не помогает. Вот и "гвоздь" в печени, и приторный вкус, словно натертого рукой металла.
Боль ушла. Сейчас. Сейчас это начнется. Я отворачиваюсь к окну и пытаюсь зажмуриться, не смотреть, не видеть своего отражения. Но когда я открываю глаза, я понимаю, что — слишком рано (опять!): глаза раздвоенного в стекле призрака, кажется, наливаются кровью. Щеки мелко дрожат оттого, что я изо всех сил стараюсь их унять, и на лице все больше обнажается оскал ухмылки. Оно смотрит на меня в упор, с долгим любопытством.
Во всяком случае, так мне кажется, когда я, обмякнув в кресле, прихожу в себя, тихо поглаживая лицо руками. На столике передо мной лежит чья‑то пачка сигарет, я машинально беру одну и выхожу в коридор.
Я вспоминаю парк, освещенный красным солнцем, который видел сегодня утром, вспоминаю свои мысли тогда и совсем недавно, вижу весь этот день, и мне становится так невыразимо больно, что я всхлипываю. Звук получается предательски громким, и я не успеваю додумать то, что хотел.
Вспоминаю, поглядывая в гипнотическую пустоту коридора, на зажатую в руке сигарету, и мне почему‑то кажется, что я должен ее прикурить. Затем вижу себя со спины, идущим по тому же коридору, и напряженно приглядываюсь.
Оборачиваюсь — никого.
Бесполезно. Ничего не понять. Вот сейчас поживу, успокоюсь еще чуть–чуть. И вернусь. Сегодня опять не спать ночь, но это не бог весть какое открытие. Интересно, который час? Полшестого. Досижу на кафедре или отпрошусь и пойду в редакцию. К семи. Домой рано. Главное занять себя. Слушать, говорить все, что угодно, любую чушь. Ну, и боишься, конечно. Чего юлить‑то. Однако и дело есть. Книга выходит в "Науке" о Владимире Соловьеве. Мне говорили, что ее уже ждут. Вторая почти сложилась в голове, и материал кое–какой есть. Студенты, опять же. Статью сегодня приняли. Все‑таки, бессонница — великая гадость. Так что, все ничего. Да–а. Да–а. Нормально. Главное, что статья хорошая. А о чем? Получилась хорошо. Живо так. Публицистично. Надо ее перечитать. Так о чем же, о вере? — Не–ет. Гадость бессонница еще и потому, что все время надеешься стать прежним. Почему вера? Причем тут вера? Статья называется "Веер политических идей и социальные группы".
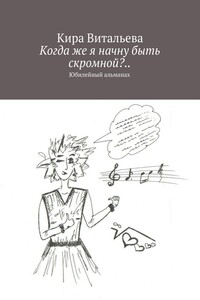
Альманах включает в себя произведения, которые по той или иной причине дороги их создателю. Это результат творчества за последние несколько лет. Книга создана к юбилею автора.

Помните ли вы свой предыдущий год? Как сильно он изменил ваш мир? И могут ли 365 дней разрушить все ваши планы на жизнь? В сборнике «Отчаянный марафон» главный герой Максим Маркин переживает год, который кардинально изменит его взгляды на жизнь, любовь, смерть и дружбу. Восемь самобытных рассказов, связанных между собой не только течением времени, но и неподдельными эмоциями. Каждая история привлекает своей откровенностью, показывая иной взгляд на жизненные ситуации.

Семья — это целый мир, о котором можно слагать мифы, легенды и предания. И вот в одной семье стали появляться на свет невиданные дети. Один за одним. И все — мальчики. Автор на протяжении 15 лет вел дневник наблюдений за этой ячейкой общества. Результатом стал самодлящийся эпос, в котором быль органично переплетается с выдумкой.

Действие романа классика нидерландской литературы В. Ф. Херманса (1921–1995) происходит в мае 1940 г., в первые дни после нападения гитлеровской Германии на Нидерланды. Главный герой – прокурор, его мать – знаменитая оперная певица, брат – художник. С нападением Германии их прежней богемной жизни приходит конец. На совести героя преступление: нечаянное убийство еврейской девочки, бежавшей из Германии и вынужденной скрываться. Благодаря детективной подоплеке книга отличается напряженностью действия, сочетающейся с философскими раздумьями автора.

Жизнь Полины была похожа на сказку: обожаемая работа, родители, любимый мужчина. Но однажды всё рухнуло… Доведенная до отчаяния Полина знакомится на крыше многоэтажки со странным парнем Петей. Он работает в супермаркете, а в свободное время ходит по крышам, уговаривая девушек не совершать страшный поступок. Петя говорит, что земная жизнь временна, и жить нужно так, словно тебе дали роль в театре. Полина восхищается его хладнокровием, но она даже не представляет, кем на самом деле является Петя.

«Неконтролируемая мысль» — это сборник стихотворений и поэм о бытие, жизни и окружающем мире, содержащий в себе 51 поэтическое произведение. В каждом стихотворении заложена частица автора, которая очень точно передает состояние его души в момент написания конкретного стихотворения. Стихотворение — зеркало души, поэтому каждая его строка даёт читателю возможность понять душевное состояние поэта.