Агасфер - [6]
«Вы, господин студиозус, желаете услышать, кто я таков? — проговорил незнакомец, засмеявшись своим невеселым смехом. — Я знаю, что вам покоя не будет, покуда вы этого не выясните. Недаром вы вчера говорили о порядке на земле и на небесах, у вас и в голове для всего должен быть такой же порядок, у каждой вещи свое место, своя полочка, свое отделение, а вот куда меня пристроить, вам невдомек».
И опять Эйцена поразило, насколько точно этот человек угадал его мысли, однако признаваться в том ему вовсе не хочется, поэтому, похлопав коня по потной шее, он пробормотал, что всему свое время, но если, мол, сударю угодно оставить свою историю при себе, то пусть так и будет, тем более что от слов прок невелик, все равно каждый видит другого человека по-своему.
Именно так, подхватил слова Эйцена его спутник, дескать, господин студиозус подметил самую суть: никому не дано исчерпать человеческую душу до дна, всегда останется какая-то тайна, ибо человек непрост.
Эйцен взглянул на своего приятеля со стороны — лицо заурядное, бородка, уголки бровей заострены, за левым плечом небольшой горб; пожалуй, ничего особенно необычного, но вдруг ему показалось, что за этой вполне реальной фигурой проступает какая-то другая, похожая на некую тень или туманность, а тут еще на солнышко набежало облако, кругом слегка потемнело, отчего Эйцену сделалось жутковато, и он пришпорил коня.
Сбежать он не пытался, от быстрого скакуна попутчика он все равно не смог бы уйти, это было ясно, поэтому он притормозил и дождался, пока неторопливый приятель не нагнал его, после чего спросил, что тот, собственно, имел в виду, когда сказал, что человек непрост.
«Каждый из нас раздвоен», — услышал он в ответ.
Кинув быстрый взгляд, Эйцен удостоверился, что некая туманность, окружавшая собеседника, исчезла; должно быть, это было просто обманом чувств, подобно тем ночным шагам. А поскольку все в голове Эйцена само собой укладывалось в привычные понятия, он сказал: «Ну, конечно. Ведь есть я и есть моя бессмертная душа».
«Да, — согласился новый приятель и засмеялся, только на сей раз в его смехе слышалась явная издевка. — Можно и так взглянуть на это дело».
Здесь в Эйцена закралось ужасное подозрение, гораздо более жуткое, чем все предыдущие, поэтому он настороженно спросил: «Уж не анабаптист ли вы, не перекрещенец ли из тех, что поклоняются в Мюнстере черту и творят всяческое непотребство? Как вы относитесь к крещению?»
«Раз уж вы так любопытны, господин студиозус, отвечу. По-моему, лучше всего крестить в малом возрасте. Даже если младенцу купель не принесет благодати, то уж по крайней мере не повредит, зато обряд будет исполнен, причем как лютеранский, так и католический».
Подобное мнение показалось Эйцену вполне разумным, хотя ему все-таки претила мысль, что внутри, может, сидит кто-то, кто способен выкинуть какую-нибудь штуку или, не дай Бог, ввести в грех и его самого, и бессмертную душу.
Лейхтентрагер пустил своего коня шагом. «Отец мой, — сказал он, — был глазным врачом Балтазаром Лейхтентрагером в Китценгене-на-Майне, а супруга его, Анна-Мария, была беременна мною на девятом месяце, когда по приказу нашего маркграфа Казимира ему вместе с другими шестью десятками горожан и крестьян из окрестных деревень выкололи глаза».
«Видать, попал ваш отец в компанию к бунтовщикам», — догадался Эйцен.
«А он сам и был одним из зачинщиков, — сказал Лейхтентрагер. — Когда народ стал собираться, кто в панцире, кто с копьем, то господа из городского совета Китценгена стали успокаивать людей, мол, бунт всем только повредит; тогда мой отец выступил с гневной речью о том, что народ не должен поддаваться на сладкие посулы, и что на приманку из сала ловят, мол, глупых мышей, и что настала наконец пора, чтобы полетели с плеч головы кровопийц».
«Да, ужасные то были времена, — важно изрек Эйцен. — Но, слава Богу, теперь они позади, благодаря писаниям доктора Мартинуса Лютера и решительным действиям властей». Говоря это, Эйцен задался вопросом, сколь еще силен бунтарский дух старшего Лейхтентрагера в его сыне, что скачет рядом.
Однако тот преспокойно жевал сорванный с придорожного дерева листок. Сплюнув его, он как ни в чем не бывало продолжил свой рассказ: «Отца моей матери по приказу маркграфа также ослепили за то, что он вытащил из церковной усыпальницы череп святой Аделоизы, основательницы женского монастыря в Китценгене и гонял его, будто шар, по полу; мой отец в тот день, когда ему выкололи глаза, умер от ужасных ран, а моя мать бежала из города со мной во чреве, поэтому и родился я, подобно младенцу Христу, по дороге, в хлеву, только не стояли вкруг меня волы и ослы, не оделяли меня волхвы своими дарами; матушка моя была совсем одна, она уронила меня, так я и стал с самого рождения калекой, хромым на одну ногу да горбатым».
«Да, трудное вам досталось наследство и от отца, и от матери», — не удержался от замечания Эйцен, а сам подумал, что от такого семени доброго плода ждать не приходится, однако вслух сказал: «И что же было дальше?»
Его собеседник вздрогнул, будто очнувшись от каких-то воспоминаний; поняв это движение по-своему, конь припустил галопом, так что Эйцену пришлось долго догонять его, прежде чем он услышал продолжение истории, то есть рассказ о том, как несчастная женщина, вконец обессиленная, донесла свое дитя до Саксонии, до Виттенберга, и там умерла, после чего военный лекарь Антон Фриз и его сердобольная жена Эльзбет взяли на воспитание сиротку, который еще и говорить-то не умел, только лепетал да плакал, прося материнской груди. «И за то им спасибо сердечное, — добавил Лейхтентрагер, — тем более что утех я им принес немного, ибо рос угрюмым, необщительным, и, когда другие говорили, то да се, мол, так было всегда, так уж, дескать, заведено, я начинал донимать людей вопросами, отчего они сердились и частенько меня поколачивали».
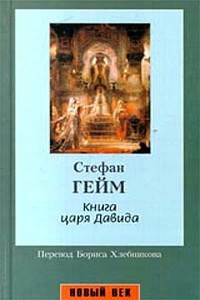
«Книга царя Давида» — это поразительная смесь конформизма и бунтарства, готовности веры и цинизма, простодушия и мудрости. Автор пишет о царе Давиде — жестоком и талантливом политике, но его история может быть спроецирована на любого правителя, ставшего деспотом и тираном.

В этом томе собраны повести и рассказы 23 писателей ГДР старшего поколения, стоящих у истоков литературы ГДР и утвердивших себя не только в немецкой, во и в мировой литературе.Центральным мотивом многих рассказов является антифашистская, антивоенная тема. В них предстает Германия фашистской поры, опозоренная гитлеровскими преступлениями. На фоне кровавой истории «третьего рейха», на фоне непрекращающейся борьбы оживают судьбы лучших сыновей и дочерей немецкого народа. Другая тема — отражение сегодняшней действительности ГДР, приобщение миллионов к трудовому ритму Республики, ее делам и планам, кровная связь героев с жизнью государства, впервые в немецкой истории строящего социализм.

В сборник «Янки в мундирах» включены отрывки из произведений популярных писателей: Марка Твэна, Говарда Фаста, Джона Уивера и Стефана Гейма, разоблачающих реакционную сущность американской политики на протяжении последнего столетия.
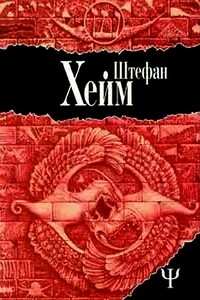
Роман немецкого писателя Штефана Хейма «Хроники царя Давида» — это оригинальная, ироничная версия хорошо знакомых библейских сюжетов. Проходят тысячелетия, медленно течет время, рушатся царства и храмы, история обрастает красивыми легендами. Однако, констатирует автор, как просто подправить историю, а порой и вовсе переписать ее по заказу.В основу книги положен конфликт между творческой личностью и тоталитарной государственной машиной. Как сохранить человеку в этой борьбе свое достоинство, отстоять право говорить правду? На какие компромиссы с собственной совестью предстоит ему идти, какую высокую цену платить…Несмотря на серьезность и глобальность поставленных проблем, книга полна блестящего юмора, написана легким, изящным языком.
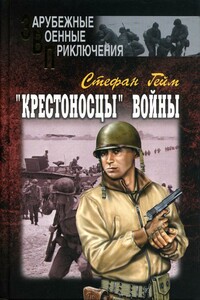
Высадившись в Нормандии весной 1944 года, американцы — лейтенант Иетс, сержант Бинг, капитан Трой, рядовой Толачьян и военная журналистка Карен — искренне верят в «крестовый поход» американской демократии против фашизма. Однако им предстоят не только полные опасностей и непредвиденных ситуаций военные будни, но и поиски ответа на непростой вопрос: кто они — воины-освободители или простые наемники, прикрывающие махинации и тщеславные амбиции своих командиров.Стефан Гейм (1913—2001) — немецкий писатель, автор нескольких десятков романов как на английском, так и на немецком языке, во время Второй мировой войны в чине офицера американской армии участвовал в высадке союзных войск в Нормандии.
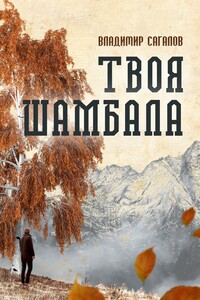
Как найти свою Шамбалу?.. Эта книга – роман-размышление о смысле жизни и пособие для тех, кто хочет обрести внутри себя мир добра и любви. В историю швейцарского бизнесмена Штефана, приехавшего в Россию, гармонично вплетается повествование о деде Штефана, Георге, который в свое время покинул Германию и нашел новую родину на Алтае. В жизни героев романа происходят пугающие события, которые в то же время вынуждают их посмотреть на окружающий мир по-новому и переосмыслить библейскую мудрость-притчу о «тесных и широких вратах».

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.