А только что небо было голубое. Тексты об искусстве - [67]
Гюнтер Фрутрунк. Эго должно присутствовать на картине
Нет ничего более неотразимого, чем искусство, время которого пришло. Сейчас пришло время Гюнтера Фрутрунка. Почему?
Когда он умер в 1982 году, художественный мир, очарованный «Новыми дикими», итальянским трансавангардом и наслаждавшийся моментом, принял эту смерть к сведению, пожимая плечами. Когда десять лет спустя Национальная галерея в Берлине и Дом Ленбаха в Мюнхене устроили ретроспективу по случаю его семидесятилетия, она прошла практически незамеченной. Никакого отклика, нигде. Казалось, что наступила эпоха, наконец-то преодолевшая Фрутрунка. Десятки лет он был обязательной частью программы эстетического возрождения ФРГ, его воспевал в своей конкретной поэзии Ойген Гомрингер [205], его интерпретировал Макс Имдаль [206], он дружил с Юргеном Хабермасом, о нем восторженно писал еженедельник «Die Zeit». Его полоски усеяли всю страну – особенно в виде многочисленных графических работ и украшения архитектурных проектов. Идеальное воплощение стиля издательства «Suhrkamp» – таким мы видим Фрутрунка на фотографии, сделанной в его мастерской: он уверен в себе и самокритичен, одет во все черное, за спиной у него хаос, а на столе перед ним предметы складываются в абстрактный узор. Когда журнал «Stern» в 1981 году напечатал карикатуру на канцлера Гельмута Шмидта, на стене в домике канцлера неожиданно вместо Нольде оказалась работа Фрутрунка. А тот факт, что в конце 70-х годов федеральное правительство в качестве официального подарка решило украсить фойе совета безопасности ООН в Нью-Йорке характерными полосками Фрутрунка, ясно свидетельствует о его неофициальном статусе государственного художника социально-либеральной ФРГ.
В какой степени Фрутрунк на протяжении всей жизни служил кем-то вроде оформителя Боннской республики, выяснилось уже на ретроспективе в 1993 году, в аннотации к которой мы читаем: «Своим творчеством он пытается восполнить лакуны, оставшиеся после национал-социализма». Воистину! Если и было искусство, программно отражавшее картину мира поколения 68-го года, то это был именно он: преодоление национал-социализма через абстракцию (наверное, так нужно), улучшение мира с помощью просвещенного искусства, жесткие краски против размягченных душ. Типичные семидесятые!
А теперь? Теперь Фрутрунка открывают для себя те, кто родились тогда, в конце 70-х, в начале 80-х. Его искусство как будто освободилось от идеологических оков и с явным облегчением готово вернуться к нам в виде масла на холсте. И встретить публику, которая после десяти лет увлечения немецкой группой «Zero» и послевоенным итальянским авангардом теперь по-другому воспринимает его работы. Например, Нора Гомрингер [207], молодая лауреатка премии Ингеборг Бахман, выросшая в окружении конкретного искусства из собрания своего отца, так пишет о красно-зеленой картине Фрутрунка из собственной кухни: «Если все остальные картины давно „осыпались“, то эта сохранила свою силу, свою тайну, потому что она высказывается не только в пространстве, но и во времени». Возможно, фигура Гюнтера Фрутрунка осталась в ФРГ, но его искусство вдруг стало частью нашего времени. А то время для него не созрело. Мы тогда еще не созрели. Сейчас – другое дело. Что Удо Киттельман [208] в Берлинской национальной галерее, что Хильке Вагнер [209] в дрезденском Альбертинуме – все восторженно достают из запасников картины Фрутрунка. И Макс Холляйн [210] говорит: «Я большой поклонник Фрутрунка». В 2017 году Петер Кирхгоф выпустил в издательстве «Deutscher Kunstverlag» каталог печатной графики, а Зильке Райтер – каталог его картин в издательстве «Hirmer». Через немецкие аукционные дома «Lempertz, Karl & Faber» и «Ketterer» на рынок вышли несколько значительных картин Фрутрунка – яркий индикатор смены вкусов. В их числе была работа из серии Фрутрунка «Hommages à Duccio», кватроченто, редуцированное до красного и лилового, экстракт из истории искусства, потрясающая вещь.
Но что же именно нас потрясает? Что делает эти полоски, эти яркие цвета, эту контрастность такими особенными? Если вы любите теоретизировать, то я скажу так: картины Фрутрунка призывают нас считать свое восприятие процессом и непрерывно пересматривать увиденное. Это похоже на «Тексты об искусстве»? Да. Тогда так: «Эго должно присутствовать на картине», так Фрутрунк сформулировал требование к самому себе. Но его публика давно поняла, что и ее туда тоже затягивают. Это делает его искусство таким безумно тяжелым. А еще делает его искусство таким невероятно устойчивым. Потому что оно содержит в себе субстанцию для длительного интереса. Потому что оно непрерывно провоцирует. И нет ничего страшного в том, что какому-то поколению приходится подождать, пока время не созреет, не дорастет до его искусства. Это удивительно, говорит мюнхенский галерист Вальтер Штормс, с 2013 года управляющий наследием Фрутрунка, как стремительно следующее поколение открывает для себя этого художника.
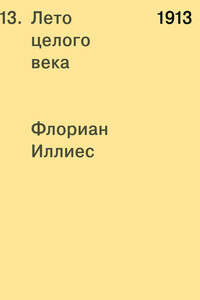
Перед вами хроника последнего мирного года накануне Первой мировой войны, в который произошло множество событий, ставших знаковыми для культуры XX века. В 1913-м вышел роман Пруста «По направлению к Свану», Шпенглер начал работать над «Закатом Европы», состоялась скандальная парижская премьера балета «Весна священная» Стравинского и концерт додекафонической музыки Шёнберга, была написана первая версия «Черного квадрата» Малевича, открылся первый бутик «Прада», Луи Армстронг взял в руки трубу, Сталин приехал нелегально в Вену, а Гитлер ее, наоборот.
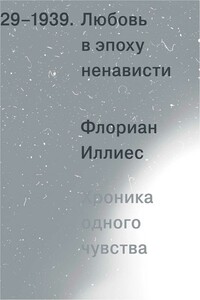
В своей виртуозной манере Флориан Иллиес воссоздает 1930-е годы, десятилетие бурного роста политической и культурной активности в Европе. Жан-Поль Сартр в компании Симоны де Бовуар ест сырный пирог в берлинском ресторане Kranzler-Eck, Генри Миллер и Анаис Нин наслаждаются бурными ночами в Париже, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй переживают страстные романы в Нью-Йорке, Бертольт Брехт и Хелена Вайгель бегут в изгнание, так же как Катя и Томас Манн. В 1933 году «золотые двадцатые» резко заканчиваются.

Книга посвящена истории отечественной фотографии в ее наиболее драматичный период с 1917 по 1955 годы, когда новые фотографические школы боролись с традиционными, менялись приоритеты, государство стремилось взять фотографию под контроль, репрессируя одних фотографов и поддерживая других, в попытке превратить фотографию в орудие политической пропаганды. Однако в это же время (1925–1935) русская фотография переживала свой «золотой век» и была одной из самых интересных и авангардных в мире. Кадры Второй мировой войны, сделанные советскими фотографами, также вошли в золотой фонд мировой фотографии. Книга адресована широкому кругу специалистов и любителей фотографии, культурологам и историкам культуры.

В этой книге последовательно излагается история Китая с древнейших времен до наших дней. Автор рассказывает о правлении императорских династий, войнах, составлении летописей, возникновении иероглифов, общественном устройстве этой великой и загадочной страны. Книга предназначена для широкого круга читателей.
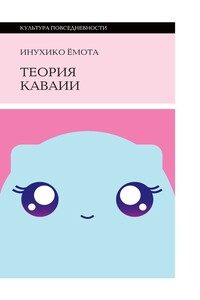
Современная японская культура обогатила языки мира понятиями «каваии» и «кавайный» («милый», «прелестный», «хорошенький», «славный», «маленький»). Как убедятся читатели этой книги, Япония просто помешана на всем милом, маленьком, трогательном, беззащитном. Инухико Ёмота рассматривает феномен каваии и эволюцию этого слова начиная со средневековых текстов и заканчивая современными практиками: фанатичное увлечение мангой и анимэ, косплей и коллекционирование сувениров, поклонение идол-группам и «мимимизация» повседневного общения находят здесь теоретическое обоснование.

Данное интересное обсуждение развивается экстатически. Начав с проблемы кризиса славистики, дискуссия плавно спланировала на обсуждение академического дискурса в гуманитарном знании, затем перебросилась к сюжету о Судьбах России и окончилась темой почтения к предкам (этакий неожиданный китайский конец, видимо, — провидческое будущее русского вопроса). Кажется, что связанность замещена пафосом, особенно явным в репликах А. Иванова. Однако, в развитии обсуждения есть своя собственная экстатическая когерентность, которую интересно выявить.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

В настоящей книге рассматривается объединенное пространство фантастической литературы и футурологических изысканий с целью поиска в литературных произведениях ростков, локусов формирующегося Будущего. Можно смело предположить, что одной из мер качества литературного произведения в таком видении становится его инновационность, способность привнести новое в традиционное литературное пространство. Значимыми оказываются литературные тексты, из которых прорастает Будущее, его реалии, герои, накал страстей.