1937 - [7]
Наступает вечер, и новый приступ тоски и боли за себя и всех, кто знал меня и теперь боится! За что? За что? Напрасно спрашивать — в революции лучше взять и погубить десять невиновных, чем дать уйти одному виновному. Но кто остальные девять со мной? Как они переживают сейчас. Вот Бела Иллеш отравился — я все-таки покрепче, но вот-вот и мне уже не хватит сил, вот-вот и я закричу не своим голосом о чем-нибудь совершенно диком!
Где же люди? Где голос помощи и одобрения? Где спасение и жизнь?
1/V
Второй день без издевательства в газетах. И от этого уже совсем радостное настроение… как будто в перерыве между атаками на войне, в окопах, не думая о том, что завтра опять начнется пытка, от которой нет ни защиты, ни укрытия, ибо всякий может говорить все, что ему вздумается, и все будут только удивляться, веря ему и не веря тебе, как бы искренне ты ни говорил.
Ощущение невинно обвиненного. Можно или впасть в бесконечное уныние от безнадежности — не оправдаться, не поверят, не поймут, нужна жертва, и выбор пал на тебя… Или можно, наоборот, чувствовать с каждым днем прилив новых сил и решимость бороться и доказывать свою правоту и прямо в глаза людям говорить о том, что никто бы из них не посмел отказаться от чести быть знакомым с Ягодой, на груди которого пять орденов, а теперь — задним числом — о, как рады все тому, что ты упал… Но найди силу в самом себе, не опирайся ни на кого, даже на самого близкого друга — найди силу и встань!
И я встаю радостный и хожу по улицам, смотрю на лица демонстрантов, подставляю голову солнцу, напеваю и покупаю конфетки для девочек, играющих в веревочку на бульваре. Как будто приехал с линии огня, на два дня отпуска — и наберись в этот отпуск сил, улыбнись всем людям, потолкайся среди них, ощути их близость и простоту их веселья, послушай гармоники веселый перебор, купи апельсин и съешь, ты все вправе сделать, ты сегодня не под обстрелом, а в мирном городе.
И как все же мудра судьба. У меня она особенная все-таки, в самые жестокие дни она устроила им майский перерыв — газеты выйдут лишь четвертого, до того времени будь спокоен, наслаждайся весной и солнцем, старайся не думать, как не думает фронтовик о погибших солдатах, он просто по-животному радуется трем дням отпуска — а впереди новые атаки, ночь, грязь, канонада, растерянность и страх, боль ран и смерти кругом, ничего, может быть, доживу до следующего отпуска, а может быть, и выпишут в бессрочный, это если меня вышвырнут и забудут, тогда три месяца лежать на траве, смотреть в небо и спать, спать, спать, ни о чем будущем не думая…
Потом уже с новыми силами, если они вернутся, вновь вставать и начинать все совершенно заново, как начинал Робинзон, или муравей, у которого капризные ребята разворотили муравейник…
2/V
Отпадение людей. Пустое пространство вокруг. Все напряглось до предела. Молчит телефон. Никто не решается снять трубку и позвонить, потому что вдруг, да “уже”… Что — уже, никто пока не знает, каждый думает о своем, каждый боится за себя.
Вчера вечером позвонил Берсенев. Я не узнал его голоса. Испуганный, придушенный, торопливый… Сразу понял картину. Мучила совесть человека — как не позвонить тому, с кем был знаком, кто помогал в беде, утешал, советовал пережить… но трусил отчаянно и все откладывал, все придумывал себе оправдания. Потом все-таки снял трубку, она жгла, голос сорвался, он бормотал что-то невнятное, ему хотелось скорей положить трубку, он ведь выполнил долг, позвонил, чего же тот еще тянет, разговаривает, спрашивает, а телефон ведь наверняка включен, кто-то подслушивает, господи, какая мука… Да-да, увидимся, на этих днях, как-нибудь, через несколько дней… Ну до свидания, до свидания… Фу, наконец-то можно вздохнуть и считать себя свободным от обязательств.
Так отпадают люди, так обнаруживаются нити связей, так распадается в мире все, и человек остается один.
А может быть, я — жертва какого-то дьявольского заговора, который ставит себе целью истребить талантливых советских художников? Может быть, кто-то сейчас радуется и потирает руки и подталкивает на дальнейший размол всех и вся — скорей, скорей, кончайте с ним, его пьесы слишком долго агитировали за коммунизм, теперь будет сброшен он, с ним его пьесы — и будет превосходно все, и будут тогда плясать наши ручки на штучках… все может быть, и заговор растет, от него никто не может уйти, он, как масляное пятно, пачкает всех и всех затягивает, как болото… Я уже на дне, вверху гудит жизнь, а у меня голова гудит от тяжести воды надо мной, кто-то в фашистской свастике спихнул меня на дно и теперь радуется, да-да…
Тридцать девять орденов дали МХАТу, а мне бы только забыть обо всем и успокоить голову и лечь на траву и заплакать, а слез нет, все слезы высохли сразу, только грудь давит и жмет — от ложных поклепов, от клеветы и ужаса невыносимого позора… Мне бы только к траве поближе да к дочке — она сейчас спит и посапывает — она еще ничего не знает, и не надо ей знать, завтра новый день мучений, пройдет этот день, и будет еще и еще… пока не выдержит сердце и разлетится на куски, горячее и пустое, как пережженный комок глины…

В начале семидесятых годов БССР облетело сенсационное сообщение: арестован председатель Оршанского райпотребсоюза М. 3. Борода. Сообщение привлекло к себе внимание еще и потому, что следствие по делу вели органы госбезопасности. Даже по тем незначительным известиям, что просачивались сквозь завесу таинственности (это совсем естественно, ибо было связано с секретной для того времени службой КГБ), "дело Бороды" приобрело нешуточные размеры. А поскольку известий тех явно не хватало, рождались слухи, выдумки, нередко фантастические.
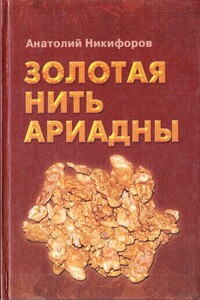
В книге рассказывается о деятельности органов госбезопасности Магаданской области по борьбе с хищением золота. Вторая часть книги посвящена событиям Великой Отечественной войны, в том числе фронтовым страницам истории органов безопасности страны.

Повседневная жизнь первой семьи Соединенных Штатов для обычного человека остается тайной. Ее каждый день помогают хранить сотрудники Белого дома, которые всегда остаются в тени: дворецкие, горничные, швейцары, повара, флористы. Многие из них работают в резиденции поколениями. Они каждый день трудятся бок о бок с президентом – готовят ему завтрак, застилают постель и сопровождают от лифта к рабочему кабинету – и видят их такими, какие они есть на самом деле. Кейт Андерсен Брауэр взяла интервью у действующих и бывших сотрудников резиденции.

«Иногда на то, чтобы восстановить историческую справедливость, уходят десятилетия. Пострадавшие люди часто не доживают до этого момента, но их потомки продолжают верить и ждать, что однажды настанет особенный день, и правда будет раскрыта. И души их предков обретут покой…».
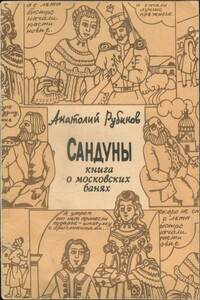
Не каждый московский дом имеет столь увлекательную биографию, как знаменитые Сандуновские бани, или в просторечии Сандуны. На первый взгляд кажется несовместимым соединение такого прозаического сооружения с упоминанием о высоком искусстве. Однако именно выдающаяся русская певица Елизавета Семеновна Сандунова «с голосом чистым, как хрусталь, и звонким, как золото» и ее муж Сила Николаевич, который «почитался первым комиком на русских сценах», с начала XIX в. были их владельцами. Бани, переменив ряд хозяев, удержали первоначальное название Сандуновских.

Предлагаемая вниманию советского читателя брошюра известного американского историка и публициста Герберта Аптекера, вышедшая в свет в Нью-Йорке в 1954 году, посвящена разоблачению тех представителей американской реакционной историографии, которые выступают под эгидой «Общества истории бизнеса», ведущего атаку на историческую науку с позиций «большого бизнеса», то есть монополистического капитала. В своем боевом разоблачительном памфлете, который издается на русском языке с незначительными сокращениями, Аптекер показывает, как монополии и их историки-«лауреаты» пытаются перекроить историю на свой лад.