1937 - [6]
Нет нужды, что вместе с правдой говорят много зряшнего — о какой-то нелепой расстановке сил, организационных связях, даже о том что на моей совести жизнь самоубийцы-поэта, которого я никогда не видел в глаза… Все это пустяки — людям же хочется за внутренними моими причинами найти что-то внешнее, они цепляются, раздувают, стараются создать стройную систему там, где не было ничего, кроме желания жить полегче, получше, потише — о, этот яд хорошей и легкой жизни, не заработанной ничем, кроме знакомств с большими людьми!
И как справедливо все, и как легко на душе от сознания своего прозрения, сколько сразу новых мыслей и чувств перед тобой, и только еще не совсем умершие нервы иногда ноют, как после операции, когда уже удалено гнилое и заражавшее, но еще больно шевельнуться от швов и голова гудит от воспоминаний о муках, с которыми лежал под собственным ножом.
Но так или иначе, это совершено — я положил себя под нож, я взрезал не только желудок, но и сердце, я умертвил себя во мне — и потом совершилось чудо, — уже не надеявшийся ни на что, кроме гибели физической, уже приготовивший себе эту гибель, — я понял и увидел вдруг начало совсем нового, нового “я” — далекого прежних смут и сует, “я”, возникшего из тумана всего лучшего, что во мне было когда-то и что потом заглохло, пропало — испарилось.
И вот оказалось, что не пропало, не испарилось, не умерло до конца, а дало начало новому — очень слабому пока, очень маленькому — но началу, в котором говорит со мной мой новый хозяин моего тела.
30/IV
Еще один день. Теперь, пока в газетах нет ничего, и это уже кажется счастьем. День без грязных слов… “вся эта авербаховская банда”… Это действительно радостный день, и хочется поехать за город, ехать медленно, наслаждаться теплом и солнцем, любить людей, ни о чем не думать, кроме весенних красок и воздуха…
Но мысли идут и идут, они складываются в обидные выводы, в два коротких слова: за что?
За что меня смешали с грязью и спустили с лестницы? За что меня еще будут мотать и мучить, спрашивать и не верить, требовать правды, хотя большей правды, чем я уже сказал им, — вообще нет в мире! За что все это? Только за то, что я был несколько лет знаком с Ягодой. И считал это знакомство честью для себя и равнялся по людям, которых видел там, и был совершенно уверен, что уж там, в доме Ягоды, не может быть никого, кто подвел бы политически или как-нибудь еще! Ведь там принимались только самые проверенные, самые близкие и все самые знатные и большие люди… Среди них, у них учился я преодолевать свое интеллигентское отношение к людям остальным… Многое мне не нравилось, но ведь это же были стражи государственной безопасности!
А кто, кто отказался бы от чести быть принятым у Ягоды? Фарисеи и лжецы все те, кто кричит теперь — распнись, кто смеется надо мной, над моими искренними сомнениями и словами. Им все равно, они смеются и злорадствуют, они выискивают новые и новые подробности, несуществующие и грязные — они уже видят меня втоптанным в землю и мертвым и рады этому, а я спрашиваю себя все чаще: за что? И не нахожу ответа. Неужели у нас можно судить человека и уничтожать его за то, что он не знал истинной сути народного комиссара внутренних дел, грозы всех чекистов, человека, который знал все про всех? Неужели поэтому теперь надо бить и бичевать себя? Несправедливо и тысячу раз неверно!
Неужели за то, что я знал Авербаха, не зная его сущности, надо меня распинать и кричать мне, что я протаскивал свои пьесы, дрянные и пошлые? Ну хорошо, пьесы я протаскивал. Но ведь они шли по пятьсот раз — неужели зрители ходили и платили деньги только затем, чтобы посмотреть на пошлую пьесу? Неверно это, тысячу раз неверно!
Я буду изгнан и буду жить один — это я знаю, так уже все сложилось, что если б они и захотели повернуть, смягчить, все равно нельзя уже было бы этого сделать. Но это возмутительно и больно по своей несправедливости, и сердце переполняется до краев обидой за свою доверчивую речь, на понимание которой ими я так надеялся!
Дипломаты на вокзале приехали проводить кого-то из посольства, кто уезжает в Европу (разве есть что-нибудь кроме жизни около себя? Чепуха и вздор!). Они приехали в новых машинах, машины выстроились у вокзала, мне стало нехорошо, я отошел поскорее, потом уехал на своем сером форде. Какое блаженство ехать медленно и не думать ни о чем, тогда голова перестает гудеть и начинаешь видеть жизнь, деревья, покрытые зеленоватым пухом первого цветения, парочки на аллейках, медленные облака, раскрытое окно деревянного домика и даже два-три аккорда на рояле слышно, если проезжаешь тихо по пустой улице… Ах, как хорошо живут люди. А тебе нужно выпасть из жизни на пять лет — о тебе забудут все, все, все — потом ты, может быть, снова выйдешь на трибуну собрания — но кто это? Скиталец, кто о нем помнит? Кто читал его? Он получил шестнадцать голосов в президиум собрания, где сидела тысяча писателей. Потому что вырастут новые люди, новые писатели будут знаменитыми и тебе даже слова не дадут сказать. Да, только сейчас начинаю я осознавать размеры крушения! Потонул гигантский корабль. И мы — мелкие, ни в чем не повинные лодчонки — тонем вместе с ним, в водовороте гибели. И если кому и суждено будет снова плыть — все равно, разбитый и продырявленный — он долго не проплывет, потонет. Все это только вопрос времени. Раньше или позже.

В начале семидесятых годов БССР облетело сенсационное сообщение: арестован председатель Оршанского райпотребсоюза М. 3. Борода. Сообщение привлекло к себе внимание еще и потому, что следствие по делу вели органы госбезопасности. Даже по тем незначительным известиям, что просачивались сквозь завесу таинственности (это совсем естественно, ибо было связано с секретной для того времени службой КГБ), "дело Бороды" приобрело нешуточные размеры. А поскольку известий тех явно не хватало, рождались слухи, выдумки, нередко фантастические.
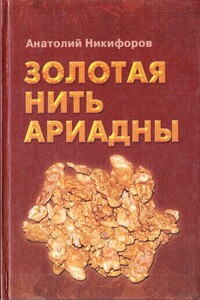
В книге рассказывается о деятельности органов госбезопасности Магаданской области по борьбе с хищением золота. Вторая часть книги посвящена событиям Великой Отечественной войны, в том числе фронтовым страницам истории органов безопасности страны.

Повседневная жизнь первой семьи Соединенных Штатов для обычного человека остается тайной. Ее каждый день помогают хранить сотрудники Белого дома, которые всегда остаются в тени: дворецкие, горничные, швейцары, повара, флористы. Многие из них работают в резиденции поколениями. Они каждый день трудятся бок о бок с президентом – готовят ему завтрак, застилают постель и сопровождают от лифта к рабочему кабинету – и видят их такими, какие они есть на самом деле. Кейт Андерсен Брауэр взяла интервью у действующих и бывших сотрудников резиденции.

«Иногда на то, чтобы восстановить историческую справедливость, уходят десятилетия. Пострадавшие люди часто не доживают до этого момента, но их потомки продолжают верить и ждать, что однажды настанет особенный день, и правда будет раскрыта. И души их предков обретут покой…».
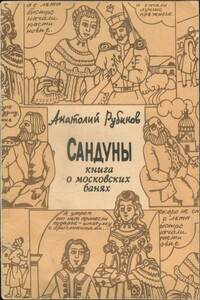
Не каждый московский дом имеет столь увлекательную биографию, как знаменитые Сандуновские бани, или в просторечии Сандуны. На первый взгляд кажется несовместимым соединение такого прозаического сооружения с упоминанием о высоком искусстве. Однако именно выдающаяся русская певица Елизавета Семеновна Сандунова «с голосом чистым, как хрусталь, и звонким, как золото» и ее муж Сила Николаевич, который «почитался первым комиком на русских сценах», с начала XIX в. были их владельцами. Бани, переменив ряд хозяев, удержали первоначальное название Сандуновских.

Предлагаемая вниманию советского читателя брошюра известного американского историка и публициста Герберта Аптекера, вышедшая в свет в Нью-Йорке в 1954 году, посвящена разоблачению тех представителей американской реакционной историографии, которые выступают под эгидой «Общества истории бизнеса», ведущего атаку на историческую науку с позиций «большого бизнеса», то есть монополистического капитала. В своем боевом разоблачительном памфлете, который издается на русском языке с незначительными сокращениями, Аптекер показывает, как монополии и их историки-«лауреаты» пытаются перекроить историю на свой лад.