1937 - [14]
Вспомнил все, что пережил за последний год, и удивился тому, что он не только жив, но и весел и думает прожить еще много лет. Значит, пережитое было мелким, или сил у него было много, хватало на многое, и он смело глядел в лицо будущему и весело ждал его.
14/VII
Ах, как не нужны мне сейчас мелкие людишки, считавшиеся знакомыми и даже друзьями. Как хочется все, все начать заново и никого не знать из тех, в ком испытал горечь разочарования в самых простых чувствах порядочности и честности отношений к людям.
Все эти Берсеневы, Берестинские, Бирман — даже она, увы, струсила, заявив откровенно, что ей хочется иметь высокого покровителя… Интересно, какого же покровителя она теперь выберет для спокойной жизни? Обманывают покровители, уж на что надежны бывают их имена и обилие орденов — все оказывается вздором, и ты живешь, как слепой щенок, кормят тебя молоком в доме, а о жизни хозяев ты ничего совершенно не знаешь.
В Испании появился советский делегат Федор Кельин. О нем Фадеев пишет: “с замечательным докладом, полным и т.д.” Кто это? Откуда он? Куда предназначен? Может быть, это есть прообраз нового руководства литературой? До чего интересно жить и ждать!
17/VII
В поезде два военных. Один другому — громким шепотом: “да-с, этот японский шпион Авербах уже расстрелян, его помощник Киршон — тоже, Ясенский остался в живых, его сослали на десять лет, а Афиногенова посадили, но дела еще не разбирали…”
Увидели, что прислушиваюсь, и толкнув друг друга, перешли на другое.
24/VII
Ужасно, сударь мой, совершив преступление, ждать, не раскроют ли тебя и как именно раскроют, в каком пределе? Но куда ужаснее, просто непереносимо, не совершив ничего, не зная за собой ничего дурного — все-таки ждать, что вот придут, обвинят в чем-то, признают виноватым… это психоз, знаю, но все же мучаюсь и тщетно сам на себя возвожу статьи обвинений…
26/VII
Дмитрий Карамазов уже после суда спрашивал себя: готов ли? То есть к другой жизни готов ли? И сам себе отвечал — не готов. Прошел первый пыл вдохновенного гимна в рудниках, осталось желание быть с Грушенькой, бежать в Америку, отпустить бороду и жить на свободе. Так и я спрашиваю себя все время сейчас — готов ли я к новой моей жизни? Или все еще давит на меня обида за несправедливую проработку и удаление от любимого дела?
Или все еще жаль расстаться с вещами и удобствами?
По совести отвечаю — не жаль. И даже наоборот — вещи сейчас давят. То, что еще осталось у меня — слишком много, надо меньше, гораздо меньше, и домик совсем маленький и не здесь, а где-нибудь очень далеко. Потому что самая моя заветная мечта — уйти в отшельники, поселиться одному, либо вдвоем и с ребенком — и ни от кого не зависеть, ни с кем не быть связанным. Боюсь я людей сейчас, хоть и тянет порой к ним и посидеть, и поговорить, но боюсь. Уж такой урок жизни был, когда люди, которым верил больше всего, оказались предателями и врагами! Теперь кроме себя никому не верю — ни за кого не могу ручаться и хочу уйти далеко и так, чтобы жить, никого не затрагивая, чтобы мне никто, самый распоследний писателишко-халтурщик не мог завидовать. А перестанут завидовать, перестанут и желать гибели, перестанут клеветать, низвергать, ругать в печати и издеваться…
А ведь людей все-таки надо любить. Что же, что много кругом врагов оказалось и почти все знакомые прежние — либо арестованы, либо проработаны. Не без этого жизнь. И по совести говоря — какая же это была жизнь до сих пор — балованная, гладенькая, без ухабов и потрясений, как у Качалова. Но у Качалова хоть голос был, а где у меня право на такую безмятежную жизнь?
И оттого я смотрю в будущее безо всякого страха. Оттого и хочу испытать в жизни все, еще не испытанное, и главное, чтобы остаться при этом добрым к людям и не заноситься самому в мыслях, знать, что другие люди есть во столько раз лучше тебя!
Нет, нет, не знаю, как дальше, а сейчас отвечаю себе по совести — готов. А что продолжаю жить, как жил, это еще инерция, еще будет и время и силы — все изменить, уйти, либо уехать далеко, понять природу и жизнь совсем по-другому и тогда снова обрести давно утерянную веру в себя вместе с покоем. Покой уже есть, только пока решимости нет. В мыслях осознано, но надо провести в жизнь. Уход и одиночество как спасение.
29/VII
Глава может называться “Возвращение к жизни”… Это день, в который я почувствовал вдруг, что снова жизнь играет кругом меня… снова строки газет зажили прежним к ним отношением. Как после тяжелого сна пробуждение всегда приятно — и я вижу, что люди радуются, ездят на экскурсии, пароходы переполнены, парки тоже, девушки загорают на берегу моря, все живет, как год назад, когда я еще был здоров и счастлив. И только маленькая моя судьба как-то выключена сейчас из общего потока жизни. Но разве в ней сейчас дело? И сознание того, что дело совсем не во мне и не в моих сетованиях на несправедливое мое исключение — это сознание — возвращает в жизнь.
Только в другую жизнь. Неудержимо тянет уйти к другим людям, стать самым незаметным, так чтобы о тебе все забыли и ты обо всех забыл, чтобы остались только самые простые потребности — и книги, и мысли о жизни… Как хорошо стать путевым сторожем, только не на станции даже, а на самом глухом пути — так чтобы раз в месяц приезжала лавка-вагон, покупать там спички и керосин, хлеб-муку на месяц — и самому охотиться на дичь, жить простой и незаметной жизнью и содержать свой участок в замечательном состоянии, а самому в свободное время читать и слушать птиц и узнавать природу…

В начале семидесятых годов БССР облетело сенсационное сообщение: арестован председатель Оршанского райпотребсоюза М. 3. Борода. Сообщение привлекло к себе внимание еще и потому, что следствие по делу вели органы госбезопасности. Даже по тем незначительным известиям, что просачивались сквозь завесу таинственности (это совсем естественно, ибо было связано с секретной для того времени службой КГБ), "дело Бороды" приобрело нешуточные размеры. А поскольку известий тех явно не хватало, рождались слухи, выдумки, нередко фантастические.
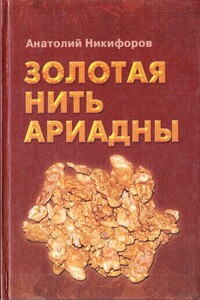
В книге рассказывается о деятельности органов госбезопасности Магаданской области по борьбе с хищением золота. Вторая часть книги посвящена событиям Великой Отечественной войны, в том числе фронтовым страницам истории органов безопасности страны.

Повседневная жизнь первой семьи Соединенных Штатов для обычного человека остается тайной. Ее каждый день помогают хранить сотрудники Белого дома, которые всегда остаются в тени: дворецкие, горничные, швейцары, повара, флористы. Многие из них работают в резиденции поколениями. Они каждый день трудятся бок о бок с президентом – готовят ему завтрак, застилают постель и сопровождают от лифта к рабочему кабинету – и видят их такими, какие они есть на самом деле. Кейт Андерсен Брауэр взяла интервью у действующих и бывших сотрудников резиденции.

«Иногда на то, чтобы восстановить историческую справедливость, уходят десятилетия. Пострадавшие люди часто не доживают до этого момента, но их потомки продолжают верить и ждать, что однажды настанет особенный день, и правда будет раскрыта. И души их предков обретут покой…».
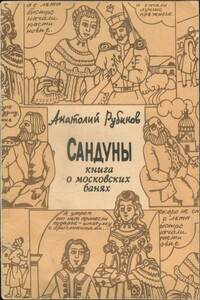
Не каждый московский дом имеет столь увлекательную биографию, как знаменитые Сандуновские бани, или в просторечии Сандуны. На первый взгляд кажется несовместимым соединение такого прозаического сооружения с упоминанием о высоком искусстве. Однако именно выдающаяся русская певица Елизавета Семеновна Сандунова «с голосом чистым, как хрусталь, и звонким, как золото» и ее муж Сила Николаевич, который «почитался первым комиком на русских сценах», с начала XIX в. были их владельцами. Бани, переменив ряд хозяев, удержали первоначальное название Сандуновских.

Предлагаемая вниманию советского читателя брошюра известного американского историка и публициста Герберта Аптекера, вышедшая в свет в Нью-Йорке в 1954 году, посвящена разоблачению тех представителей американской реакционной историографии, которые выступают под эгидой «Общества истории бизнеса», ведущего атаку на историческую науку с позиций «большого бизнеса», то есть монополистического капитала. В своем боевом разоблачительном памфлете, который издается на русском языке с незначительными сокращениями, Аптекер показывает, как монополии и их историки-«лауреаты» пытаются перекроить историю на свой лад.