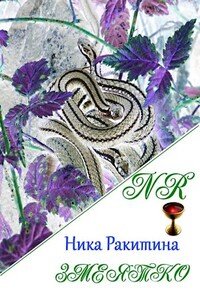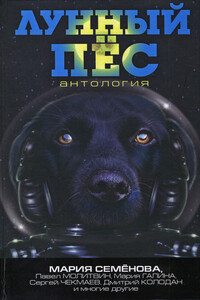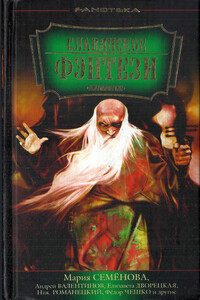Дурная примета — ходить по воду после заката.
Не то чтобы страшно или соседи осудят — у старостихи колодец-то свой. Но что вытянула деревянным ведром, через щели которого каплет вода, — в потемках не разглядеть. А муж в доме зачерпнул ковшом и остолбенел.
Серый мешок дышал, раздувался, царапал стенки отростками-змеями.
Староста кинул его в печь. Лязгнул заслонкой. Закричал на жену:
— Змеятко это! Чего уставилась?!
Сгорел один. Но в пруду заведется другой, на озере третий, а на болото так и не ходи вовсе. Беда пришла в Олельчицы. Дышала в затылок, заставляя волосы вставать дыбом. Щерила беззубый рот.
— Девок собирай по деревне! Тех, что в возраст вошли, уводить надо. Я за Ольхушкой.
Старостиха ударилась в слезы. Стала виснуть на руках.
— Куда ночью да в потемках? На болото, что ли?
— На сухую гриву!
Обозвал глупой бабой и крякнул с досады. Зажег от лучины фонарь. Прихватил топор в сенцах и вышел на подворье. Кругом было хоть глаз выколи. Только рыжее пятно света бежало перед старостой по черной траве. Он шел, постукивая топорищем в стену, чтобы не заблудиться.
Дочку родную, любимую, как ей двенадцать минуло, поселили в отдельной коморе и запирали на ночь, пока не просватают. Ох, лучше бы в хате держали. Да и пусть себе любится с кем! Лучше порченная, чем съеденная.
Хотя скотина вроде не беспокоится…
— А зачем выводить? Обождем, пересидим.
Староста оглянулся на заход — куда солнце ушло. Над зубчатым лесом вспыхивали и погасали сполохи. А дымного зарева — нет, не видно. Значит, всадники рыскающие в соседний Борогин еще не пришли.
— Король нас оборонит.
Он вогнал топор в стену:
— Ты что, и вовсе дура? Оборонит, как же. Сам дочками нашими прикроется. Еще дед мой покойный говорил, что так будет. Как подрастет змеятко — станут новых Плясуний искать.
— А куда старые делись?
— Старый король извел под корень. Собрал на пир в Осеннем замке да и перерезал всех.
— Так разве не гордыня их сгубила? — сказала старостиха неуверенно. — Королю все женки попадались неплодные, хилые. А одна из Плясуний зачала. Они и возомнили о себе. С золота ели, на шелку спали…
— Они кровь проливали за нас. Дед сказывал, крови там в замке по щиколотку было. И опоенные, двигались так, что не скоро их смогли остановить. А сказку, что змеятко Плясуньи призывают, уже после придумал король. Надо же было оправдаться.
— Да как ты можешь наговаривать на милостивца?
— А ему, покойнику, что? — муж сплюнул под ноги. — Это нам сейчас расхлебывать его жадность, его глупость! Конец мира пришел.
Конец мира всплыл над лесом дымным заревом. Золотым кречетом пронесся над головами.
Предупреждение запоздало. Всадники рыскающие оточили деревеньку. Волками мелькнули мимо хат вместе с факельным огнем. Рудые языки его дергал ветер, и тени вырастали до стрех. Собаки подняли лай, заверещала скотина, жены ударились в плач.
Черный конь широкой грудью повалил плетень. Ольхушку вытянули из коморы и перекинули через седло. Всадник зыркнул на старосту недобрыми зелеными очами: зеленые — тоже к беде.
А может, примстилось. Кто там в темноте цвет глаз разберет, даже и с фонарем.
Волосы воина были седы и коротко стрижены. Лицо рубленое, жесткое, загар въелся в морщины — не от старости, от постоянного пребывания на ветру. Ширину плеч скрадывала черненая кольчуга.
Староста метнул в него фонарем — а не езди, срань, без шлема! И разбил бы голову, но седой уклонился с поистине змеиной грацией. На серебряном лобном обруче блеснул свет.
Старостиха в ноги бухнулась:
— Не погуби-и! Сельцо наше глухое, маленькое. Откуда тут Плясуньям быть? Бери кого хошь, отпусти Ольхушку, кровиночку!
Седой вытянул из голенища кнут с серебряными кольцами по рукояти: по числу убитых этим кнутом волков. Или не только их. Ощерился:
— А кого ж нам брать тогда?
— Боженка на выселках живет! — заелозила в траве старостиха. — Перестарок, сирота никому не нужная! Плакать по ней некому! Бери ее!
Седой сплюнул. Пнул старосту сапогом в спину:
— Ну, веди!
А Ольхушку не выпустил.
Конь осторожно переступил бабу, распластанную на земле.
Деваться некуда, староста повел отряд темным проселком за густой лес на край болота, надеясь, что змеятки Боженку не поели.
Седой сердился, и староста бежал прискоком, а после и вовсе пятами сверкал, запыхался, и пот с него ручьем лил. И шапку он потерял, побоялся наклониться за ней. А всадники стелились по дороге, как тени. Уздечки не брякали, копыта не стучали. И черные в потемках хортые тоже бежали молчаливо, и их легко было спутать с кустами, растеребленными ветром.
Старосте почудилось, что волки где-то воют, а луна, осветив серебром лужи на болоте, резко запряталась в тучу.
В Боженковой хатке огонь не горел. Умаялась девка и спать легла вместе с курами. Всадники попрятались в тени под лозой и волчьим лыком, а главный старосту подпихнул в азадок: стучи давай.
Тот защелкой и затарабанил. Боженка выглянула сонная:
— Дядько, вы чего? Снова конь тонет?
Помогала раз коня из трясины вытаскивать. Управилась там, где сильные мужики не смогли. Странная девка.
А она воздух ноздрями втянула, насторожилась — и пихнула старосту с крылечка на тех, кто скрадывался следом. Плеть седого перехватила, дернула на себя, а напавшего пнула босой ногой под колено. Прыгнула вбок. Качнула ветки и исчезла.