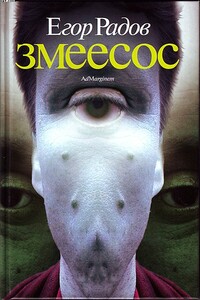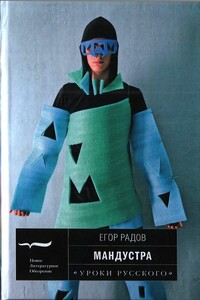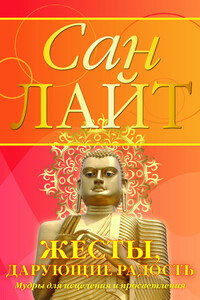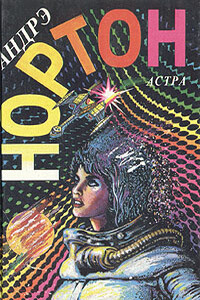«Мне нравится город Находка,
Я сразу его узнаю,
Когда он матросской походкой
Спускается в бухту свою».
Марк Лисянский
Иоганн Шатров упал из окна и разбился. Лао и Яковлев были богами, они сидели в буйстве сущностных облаков и сотворяли все, что могло быть в наличии. Однажды было скучно, и Яковлев, словно намыливаясь благовонием астрала, приобретал конкретную оболочку, которая говорила:
— Лао, придумай мне мир, ибо Я есть Все!
Лао, находящийся по ту сторону предела, окружал товарища по творению райскими прелестями истины и жизни. Он тоже мог бы стать предметом, но в данную секунду, или минуту, обладал абсолютным временем, в котором нельзя терять регалии высшего существа и нисходить в собственное создание, чтобы разговаривать, или быть рядом. Н. Николайчик ничего не ведал про это. В это время Яковлев принял себе имя Хромов и тихо сидел на рыбалке, ожидая проходящих мимо девушек.
…у самой воды он лицезрел нежнейшее сочетание красного поплавка с бурой водой, чувствуя себя блаженным мертвецом, ушедшим от дел в толщу защитной земли, или воды, или огня. Он сидел, воплощенный и не желающий возвращать себе бремя совершенства.
Вышел старик, недовольный рыбаком, посмотрел ему в грудь и промолвил:
— Брат мой, ты хочешь оставить свою миссию, а она высока! Подумай хорошо.
Автоматом Калашникова старик расстрелял мускулистое тело Хромова, и Яковлев порадовался возвращению в эмпиреи.
Лао вместе с ним теперь восседал на резных облаках в эфире розовых струй — они были трубачи, друзья и любовники; сотворяли себя самих из самих себя, смеялись, подтверждая Бытие. Скучали, лениво покачиваясь на ветру всевозможности.
Был некий недостаток интересной задачи с той стороны черных дыр. Соответственно этому Яковлев медовой обоймой вседозволенности расцветал перед другом, лицезрея последние успехи сияющей льдом дороги жизни. Вместе они изобретали мелкие и крупные миры, рдели, словно полевые цветки, зардевшиеся от шмелиного поцелуя, и были невероятны как ничто, стараясь при этом быть ближе друг к другу. Бытие нуждалось в защите, но это было плевым минутным делом, поскольку оно и так постоянно находилось под руками в разных видах.
Они сейчас стояли перед белым песком времени, занимаясь вычислением по-восточному. Возникали комья реальностей, в них трепетали тела и души, и было все. Лао и Яковлев уселись в свои кресла, поглаживая друг дружку нежными ложноножками, пронзающими остальное и их самих и несущими свет. Семену исполнилось три года.
В то время как И. Яковлев под окружающий мир ходил пешком, у себя в квартире, в четыре часа пополудни, лежа на правом боку в кровати, стоящей в центре зала, где был легкий мрак от занавесей и теней, умирал Артем Коваленко.
Он был Первым Консулом парламента своей родины, видным членом правительства и общества, любимцем масс и отдельных людей. Вся страна была наполнена трепетом за жизнь человека, который отдал ей свою жизнь. Еще юношей он проявил себя в хороших делах: воевал, был борцом за права, великолепным оратором, речи которого чтились простым людом. Многие помнят молодого задиристого Коваленко, который предлагал счастье и новые программы его достижения и развития. Он постоянно добивался того, что поставил своей задачей и целью. Будучи в положении Великого Консула, он уверенно вел за собой всю жизнь и мир, настаивал на любви к окружающему. Л. Коваленко знают даже грудные дети; он повысил благосостояние. Его лицо в кровати было похоже на нервную изнанку плотского бытия; лоб выделял пот, словно отравленный источник, высыхающий внутри земли; белки глаз были мутными, как Заполярье.
Он имел усы. Аккуратно подстриженные, они окаймляли верхнюю губу, зависая над подбородком, который выдавался вперед где-то на уровень носа, малорослые баки по обеим сторонам щек были с седенцой. Губы Коваленко были чувственными.
Артем лежал и знал, что большая страна слышит усталую поступь его доброго больного сердца. Он вынул руку из-под одеяла, взял в ладонь колокольчик, позвонил и издал тихий, не окрашенный эмоционально, звук своим ртом.
Вошел предупредительный серьезный человек в лиловом костюме.
— Что вам? — спросил он участливо и с большой долей вежливости.
— Зови всех, — сказал Коваленко счастливым голосом. — Отхожу к потомкам!
Кровать, на которой лежал Коваленко, была полутораспальной, ножки едва-едва отступали от пола; на простынях и наволочке, если посмотреть внимательно, можно было обнаружить написанную синей краской цифру «69».
В эту самую секунду вошли члены парламента, родственники, друзья покойного, Ольга Викторовна Коваленко, Миша и Тоня Коваленко.
— Сограждане! — трясясь от предстоящего издыхания, сказал виновник прихода в эту комнату большого количества людей, — Я любил вас, будьте готовы отдать свое время помыслам и делам! Настал мой час, я чую жжение в груди и в членах, я скоро отойду к потомкам, оставив вам свой облик для воспоминаний, и вы будете рассказывать друг другу каждый приятный момент, проведенный со мной, и испытаете радость. Боги отпустили мне миссию служить ближнему, и я выполнял это; теперь мой ум наполнен вами; помнишь, Оля, тот миг, когда я поцеловал тебя впервые, это было одно из лучших мгновений моей жизни!