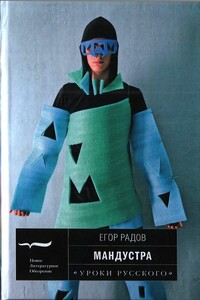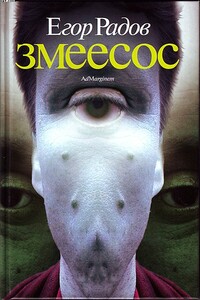Устав от беспутного одиночества и неудовлетворенных страстей, я женился, и, кажется, вышло довольно удачно. Невозможно же всю жизнь жить одному, можно умереть со скуки, но, с другой стороны, женщины страшно отталкивают своими вечными претензиями, своей плохо скрываемой глупостью и назойливым стремлением казаться прекрасными и талантливыми. И все же я женился и не жалуюсь, напротив, я очень рад. Мне даже кажется, что я достиг идеала в супружестве и моя жизнь представляет из себя полную идиллию. Вначале были некоторые неполадки, но теперь — все отлично.
Моя жена — моржиха из московского зоопарка, я украл ее оттуда и взял на содержание. Мы живем вместе уже целый год, и я еще никогда не был так счастлив. Как только я увидел ее в зоопарке, когда она вылезла на берег из грязного прудика, где она до этого бултыхалась, я сразу же понял, что здесь я найду свою судьбу. На ее мощных усах застыли капли воды, клыков почти не было, как у девочки: она отфыркивалась и хрипела, коричнево-розовая кожа лоснилась, сминаясь в складки, и слегка колыхалась от толстого жирового слоя. Она перевернулась на спину, зевнула, как-то хрюкнула и раздвинула нижние ласты, устроив мне такой стриптиз, который мне еще не приходилось видеть. И я понял, что я погиб, я чуть не умер от страшного желания, а она, словно разгадав мои мысли, перевернулась обратно на живот и нырнула опять в свой вонючий грязный прудик с мелкими льдинами.
Я влюбился в нее, я не мог спать, не мог ничего читать, писать, ни о чем думать. Наконец я решился и украл ее. Но когда я привез ее домой, мне стало ясно, что поместить ее некуда. Она лежала посреди моей квартиры на ковре, воняла чем-то липким и гнусным и жалобно кричала.
— Успокойся, моя милая, — сказал я ей, — не надо кричать, любимая…
И тут она обгадила мой ковер, а потом облегченно поползла куда-то вперед. Я решил уложить ее в ванну, но она не умещалась в ванне. Тогда я взгромоздил ее на кровать. Поскольку наш брак еще не был заключен, я не стал приставать к ней с гнусными предложениями, а закрыл к ней дверь и ушел спать в другую комнату, хотя всем сердцем был с ней. Посреди ночи раздался страшный вопль. Я сразу проснулся и побежал в комнату, где была моя любовь.
Она лежала на кровати, задрав ласты. Из ее рта сочилась какая-то вонючая слюна, или сопля, усы нервно дрожали. Она тряслась, словно пытаясь извиваться, и орала.
— Послушай, — строго сказал я ей, — если ты так будешь орать, то я еще подумаю, брать ли тебя замуж. Да, я люблю тебя, но что значит любовь в наши дни? Да, ты глупа, как пробка, это хорошо; да, ты не вставишь мне лишнего слова, но зачем же так орать? Мне нужна жена, чтобы она вообще рта не раскрывала, понятно?
Но моржиха не слушала моей тирады, продолжая кричать так, что я уже подумал, не сбегутся ли соседи, особенно секретарь горкома, живущий надо мной. И я понял, что придется ей вырезать голосовые связки, иначе она будет орать все время, а такая жена мне не нужна. Мне нужна жена, молчащая как рыба. Я бы, может быть, женился на рыбе, но с ней почти невозможно жить половой жизнью. В дни моей молодости я увлекался всякими врачебными штучками: курил марихуану, колол морфий и тому подобное — и я решил провести операцию сам. Но я не живодер, я решил усыпить мою моржиху — спи, красавица!..
— Потерпи, моя хорошая, моя родная, — говорил я ей, наклоняясь со шприцем в руке, — сейчас укусит комарик, и все.
Но оказалось, что на комаров ей глубоко наплевать, и все эти уколы ее не волнуют. Мой шприц еле-еле продырявил толстую кожу и увяз в слое жира. Моржиха на это никак не отреагировала, только слабо, невыразительно рявкнула.
Я попробовал шприц для лошади, но и он был слишком короток. чтобы пройти сквозь кожу и этот проклятый жировой слой, а я считаю, что вводить лекарство надо исключительно в плоть. И тогда я взял шприц для лошади и засунул его ей иглою в горло. Моржиха взвизгнула от боли и страха и бешено дернулась, проколов себе небо. Я сразу же нажал на шприц и. двинув ей лошадиную дозу сильнейшего снотворного с новокаином, выдернул его. Ответом мне был фонтанчик крови изо рта моей ненаглядной. Она посмотрела толстыми выпученными глазами на свою кровь, которая сочилась сейчас, словно молоко из перевернутой детской бутылочки с соской, напряженно вздохнула и затем резко выдохнула воздух, успокоено замерев. Я понял, что она обгадила мне всю постель. Но ради моей любви я был готов на любые жертвы.
Когда она окончательно заснула, я вырезал ей ко всем чертям голосовые связки, но оставил язык, чтобы она могла нормально есть и глотать. Затем я наложил швы, остановил кровотечение, вмазал ей морфия, чтобы она ловила кайф, и привязал ее к кровати.
— Бедная ты моя, бедная, — сказал я, склонившись над ней. Я чуть не расплакался, увидев ее, всю исполосованную скальпелем и в бинтах. Я даже на мгновение засомневался, люблю ли я ее, но потом я отринул сомнения.
— Спи, моя радость, усни, — жалостливо проговорил я и ушел к себе.
Рана заживала почти неделю, но все это время моржиха вела себя тихо и спокойно, потому что я избавил ее от нужды кричать. Только иногда она напрягалась, как будто ей пучило живот, пытаясь издать хоть какой-то звук, но потом, понимая, что это невозможно, она замолкала. И наконец этот ужасный рефлекс — говорить — исчез и больше не появлялся.