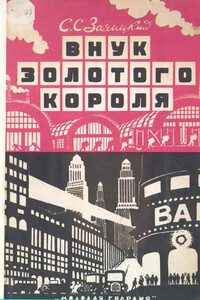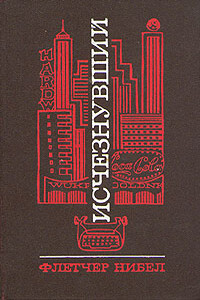Ивану Вавиловичу Пробочкину было необыкновенно приятно. Небо синее, море синее, дорога меж виноградниками белая, жаркая, вдоль дороги кипарисы, пылью напудренные, а из-за каменных оград деревья, будто кровью, черешней обрызганные. Благодать! Благодать!
Иван Вавилович Пробочкин глядел, глядел и вдруг духом умилился, дышать стал всей грудью. Глаз даже сразу слезу источил. Посмотрел на супругу свою — пышная вся, в белом — руки голые, шея голая от солнца лупится.
— Ты дыши, Машенька!
— Я и то дышу. Воздух уж очень хороший.
— Нет! А горы-то? Высотища? А море-то? Я думаю, что нет такого пловца, чтоб море переплыл.
— Еще бы человеку море переплыть! Ты уж скажешь!
— А что, ежели на ту вон верхушку взобраться и сесть? А? Машенька? Я думаю, с нее Крым как на блюдечке. Пожалуй, еще Турцию видно.
— Ты уже выдумаешь! В такую жару на гору лезть!
— А мне что жара? Сниму рубашку, да и полезу! Кто меня тут осудит!
— Сопреешь!
— Сопрею — высохну! А, Машенька? Полезем?
— Нет уж… Я лучше соснуть пойду… Мне после шашлыка что-то… нудно!
— Хороший шашлык был! Шашлык был что надо!
— Ты полезай, коли охота… Я, ты знаешь, Веревьюнчик, тебя не хочу стеснять. А я пойду соды выпью, да и сосну…
Иван Вавилович с умилением обнял пышный стан, будто погрузился в жаркую, умело взбитую перину. Подождал, пока скрылось за поворотом кисейное платье, еще раз оглядел все — благодать! — и полез по узенькой тропочке. «К обеду не опоздай», — послышалось снизу.
* * *
Иван Вавилович умилялся уже целую неделю; с того мига, когда носильщик, приняв с извозчика подушки, спросил, как показалось, почтительно: «На скорый?»
Тут-то и умилился Иван Вавилович и подмигнул супруге:
— Два года назад меня на этом самом вокзале, как собаку паршивую, шугали — куда прешь, а теперь? Чистота-то… Господи! Смотри, смотри! «Вам на скорый?» Дожили до времечка!
Поезд был блестящий и гладенький, вагоны зеленые, как огурчики, желтые, как апельсины, на всех аншлаги: «Москва — Севастополь», а у ступенек проводники важные, в серых куртках, с серебряными пуговицами. Когда прожужжал третий звонок, вынул Иван Вавилович часы и головой покачал с улыбкой изумленного удовлетворения:
— Чок в чок! А раньше? «Когда поезд?» «А мы почем знаем! Хочешь ехать, ступай дрова грузить!» А теперь? Н-да! Вот вам и большевики! Я всегда говорил!
— Ну, уж и говорил! Забыл, как мешки таскал?
— Ну, таскал! Мировые перевороты без эксцессов протекать не могут. Почитай-ка, как французы друг дружке головы рубили… Нет, ей-богу, молодцы… Жалею, что на вокзале бухаринскую книжечку не купил!
Но до слез умилился Иван Вавилович в вагоне-ресторане. За окном степь, вблизи зеленая, вдали синяя, еще дальше лиловая. Вокруг станций ветками в небо тополя, хаты белые, словно мукой вымазаны.
— Ведь вот раньше на этой самой дороге — солдатье, теплушки, мешочники… Корку сухую вынул из кармана, жуй, буржуй, угоднику своему молись… Соль, помню, в кошельке вез. А теперь… Шницель по-венски… Легюм из свежих овощей… Соль «серебос» какая-то, черт ее знает! Нет, молодцы… К нам иногда в магазин коммунист один ходит за башмаками… Надо будет поговорить… Я ведь тоже человек идейный… Я не вошь какая-нибудь на общественном теле.
— Фу, Веревьюнчик, за обедом такие гадости.
— А что же? Разве неправда?
* * *
Иван Вавилович вспомнил все это на крутой тропочке. Море с этой высоты казалось застывшим. Он снял рубашку и, почуя, как горячие пальцы солнца ощупали его плечи и руки, опять умилился.
— Хорошо! — молвил он вслух и выше полез и даже пальцами защелкал от восторга.
Кончился виноградник, и тропинка устремилась вдруг под темно-зеленую сень старого лиственного леса. Где-то внизу журчала вода, одна мысль о которой в жару была усладительна.
«Да, — подумал Иван Вавилович, — дождались времечка… В Крым на лето! Ах ты, сукин сын! А как в очереди за спичками стоял, помнишь? А как доски на чердаке крал, помнишь? История, брат, ничего не пропишешь! Все по марксистскому закону! Помучились и довольно».
Тут неожиданно очутился Иван Вавилович на уступе, поросшем травой, и ахнул. Внизу, утыканный кипарисами, тянулся южный берег, отделенный от синевы моря белою полоской. Где-то в лазури, словно в воздухе, застыл пароход, и дым от него, тоже застывший, тянулся по всему небу. Отведя от моря восхищенные свои взоры, увидал Иван Вавилович, что не один он находится на поросшем травой уступе. Некий человек, обнаженный, как и Иван Вавилович, до пояса, с кожей, темной от загара, как у индейца, сидел, свесив ноги в пропасть, и жевал серые, будто из пыли испеченные лепешки.
— Тоже природой любуетесь? — спросил Иван Вавилович с некоторой почему-то робостью.
Человек не спеша прожевал лепешку и пожал плечами презрительно.
— Чего ею любоваться-то! — пробормотал он. — Море как море! Ничего в нем такого нету, чтобы им любоваться.
— Ну, что вы… Синева-то какая!
— Ну и что же, что синева?.. Мало ли на свете синего… Вон и небо синее…
— И небо хорошо!
— А было бы желтое, хуже было бы?
Иван Вавилович опешил на мгновение.
— Уж мы так созданы, чтобы любить голубое небо.
Темно-коричневый человек плюнул в пропасть и ничего не ответил.