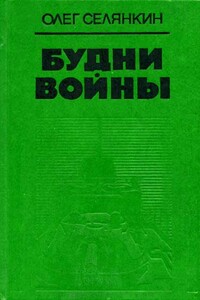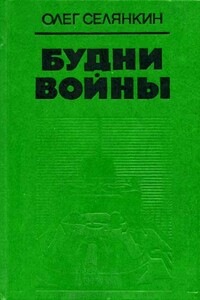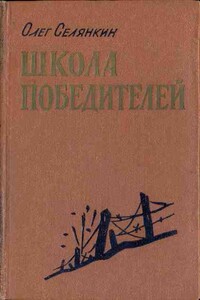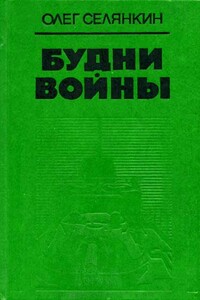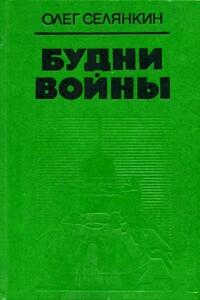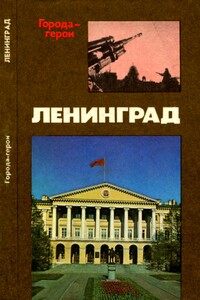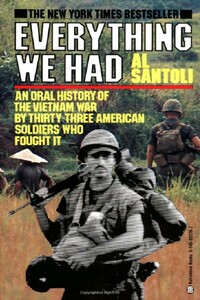С недавних пор лейтенант Манечкин Игорь Анемподистович стал бояться писем из дому. Ждал их с нетерпением и одновременно боялся. Только потому, что отец, которого, видимо, под корень рубанула гибель старшего сына — Глеба, теперь в письмах обязательно сообщал о каждом знакомом, ушедшем на фронт; с особой тщательностью выписывал имена тех, кто пал в боях с фашистами, кто больше никогда не вернется в их районный городок Бродни.
Каждое такое письмо невольно заставляло думать о том, что смерть в этой войне, как никогда в прошлом, жадна на человеческие жизни, что никто не скажет даже приблизительно, сколько еще погибнет молодых парней и мужчин в самом расцвете сил в борьбе с клятым врагом, пока придет победа.
Особенно больно было читать те строки отцовских писем, где он писал о Глебе, погибшем во время боев в районе Вязьмы.
«Может, Игорек, тебе как кадровому командиру нашей родной Красной Армии удастся узнать, где он похоронен? Ты, сынок, уж постарайся для семьи, не поленись и дойди до какого там нужного генерала», — писал отец. И вообще в каждом слове его пространного письма была боль за погибшего, искренняя тревога за двух пока еще живых сыновей. Настолько огромна душевная боль отца, что заглушала чувство реальности: «…дойди до какого там нужного генерала…» Не может отец понять, не хочет понимать, что не только его сын погиб в той кровавой мясорубке под Вязьмой, что у генералов сейчас поважнее задачи, нежели розыск могилы иного солдата. Не знает и пока не узнает отец, что частенько и мы, похоронив иного товарища, не сможем точно указать, где это свершилось: очень часто еле приметные холмики земли оставляли мы на том месте…
А в письме, которое пришло вчера, диким криком отец возопил, что и самый младшенький — Ростиславушка! — ушел на войну, а в какие войска, на какой фронт — неизвестно. И опять просьба, почти слезная: «…поспрашивай, кого надо, найди братика и возьми его под свою командирскую руку».
Он понимал отца: в прошлом обыкновенный конюх, каких в их городке были десятки, а теперь завхоз единственного конного двора, научившийся писать и читать лишь к сорока годам и уже потому считавший себя счастливцем, хотел своим сыновьям только большой судьбы, гордился, что все они имеют высшее образование, — знай наших! — и вдруг война безжалостно вмешалась в его мечты, начала сокрушать их.
Вот и было после получения этого письма у лейтенанта Манечкина отвратительное настроение. А тут еще и работник наркомата, вручая ему направление в новую часть, допустил величайшую бестактность, сказав на полном серьезе:
— Лично я, окажись на вашем месте, обязательно подумал бы о смене фамилии.
Обида, возмущение и сердечная боль, порожденная гибелью старшего брата, сжали горло, и в ответ он только прохрипел:
— От старшего брата, который погиб, защищая Москву, отречься советуете?
С тех пор как состоялась эта короткая перепалка, минуло уже более трех часов. Но даже теперь, сидя в одноместной каюте парохода, который, подгоняемый течением, резво бежал вниз по Волге, он не мог обрести привычное спокойствие; временами даже сейчас передергивало всего, словно прикасался к чему-то чрезвычайно противному.
Да, он, лейтенант Игорь Анемподистович Манечкин, и без подсказок со стороны знал, что фамилия у него незавидная, искренне считал, что из-за нее никогда не будет иметь должного хода по службе; хоть убей, но не звучит «адмирал Манечкин», — нет, не звучит!
Убедил себя в том, что из-за собственной фамилии никогда не сделает настоящей военной карьеры, но не раскаивался в том, что решил стать командиром Военно-Морского Флота: вовсе не обязательно всем быть адмиралами, кое-кому надо стоять и на менее почетных ступеньках. Надежно, со знанием дела, так уверенно стоять, чтобы у старших и ничтожно малого сомнения не зарождалось, когда разговор заходил бы о соответствии его занимаемому месту. Поэтому, когда перед государственными экзаменами у него официально спросили, где, на каком флоте и какого класса корабле он желал бы служить, ответил честно, что заранее согласен на любое решение командования.
Его направили на Черное море, под Одессу, командиром взвода в бригаду морской пехоты, которой командовал полковник Осипов. Оказавшись в окопах, искренне пожалел, что сухопутную тактику считал для себя лишним предметом, ну и учил только для того, чтобы получить зачет; упустил необходимое, когда, можно сказать, тебе насильно его в рот впихивали, вот теперь и пришлось с риском для жизни познавать то, от чего еще недавно так упорно открещивался.
Если судить по реакции матросов и командования, успешно осваивал он законы войны на суше.
Там, под Одессой, и командиром роты стал, и покинул город, повинуясь приказу, не в числе самых-самых последних, но близко к тому.
И снова в бой, теперь в Крыму, на подступах к Севастополю.
А в феврале этого года случилось так, что большой зазубренный осколок фашистской мины, будто топор, рубанул по груди, чуть не развалил ее.
Почти два месяца отлежал в госпитале. Залечил рану, отоспался за все прошлое и про запас немного отхватил. Затем медицинская комиссия, внимательно обследовав, признала его годным к продолжению строевой службы. С этим заключением в апреле и прибыл в Ульяновск, в наркомат. А вот сегодня, 6 мая, получил предписание: «Отбыть в Волжскую военную флотилию в распоряжение контр-адмирала Чаплыгина Ф. И.».