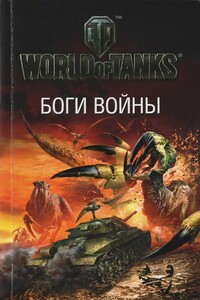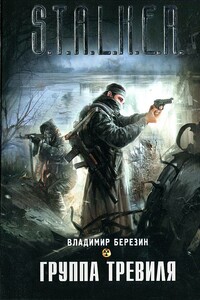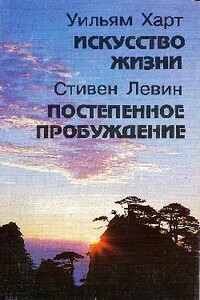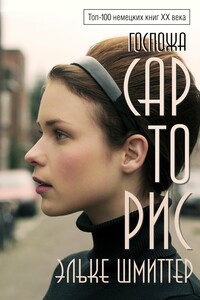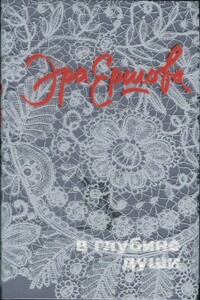Он жег бумаги уже две недели.
Из-за того, что он жил на последнем этаже, у него осталась эта возможность – роскошные голландские печки, облицованные голубыми и сиреневыми изразцами, были давно разломаны в нижних квартирах, где всяк экономил, выгадывая себе лишний квадратный метр.
А у него печка работала исправно и теперь исправно пожирала документы, фотографии и пачки писем, перевязанные разноцветными ленточками. Укороченный дымоход выбрасывал вон прошлое – в прохладный майский рассвет.
Академик давно понял, что его возьмут. Он уже отсидел однажды – по делу Промпартии, но через месяц, не дождавшись суда, вышел на волю – его признали невиновным. Он, правда, понимал, что его просто признали нецелесообразным.
Теперь пришел срок, и беда была рядом. Но это не стало главной бедой – главная была в том, что установка был не готова.
Он работал над ней долго, и постепенно, с каждым винтом, с каждым часом своей жизни, она стала частью семьи Академика. Семья была крохотная – сын и установка. Как спрятать сына, он уже придумал, но установку, которую он создавал двадцать лет, прятать было некуда.
Его выращенный гомункулус, его ковчег, его аппарат беспомощно стоял в подвале на Моховой – и Кремль был рядом. Тот Кремль, что убьет и его, и установку. Вернее, установка уже убита – ее признали вредительской и начали разбирать еще вчера.
Академик сунул последнюю папку в жерло голландского крематория и приложил ладони к кафелю. Забавно было то, что он так любил тепло, а всю жизнь занимался сверхнизкими температурами.
Бумаг было много, и он старался жечь их под утро, вплоть до того момента, как майское, почти летнее солнце осветит крыши. С его балкона был виден Кремль, вернее, часть Боровицкой башни – и можно было поутру видеть, как из него, будто из печи, вылетает кавалькада черных автомобилей.
Потом Академик курил на балконе – английская трубка была набита черным абхазским табаком. Холодок бежал по спине – и от утренней прохлады, и от сознания того, что это больше не повторится.
Машины ушли в сторону Арбата, утро сбрызнуло суровые стены мягким и нежно-розовым светом. Говорили, что скоро всех жильцов отселят из этих домов по соображениям безопасности, но такая перспектива
Академика не волновала – это уже будет без него. Выдавили, как прыщ, золотой шар храма Христа Спасителя, а вставшее поодаль от родного дома Академика новое здание обозначило новую границу будущего проспекта.
Горел на церкви рядом кривой недоломанный крест, сияла под ним чаша-лодка – прыгнуть бы в лодочку и уплыть, повернуть тумблер – и охладитель начнет свою работу, время потечет вспять. Вырастет заново храм, погаснут алые звезды, затрепещут крыльями ржавые орлы на башнях, понесется конка под балконом. Но ничего этого не будет, потому что месяц назад во время аварии лопнули соединительные шланги, пошло трещинами железо, не выдержав холода, а потом новый накопитель, выписанный из Германии, не прибыл вовремя.
А если бы прибыл, успел, то прыгнул бы в лодочку, прижав к себе сына, – будь что будет.
Сын спал, тонко сопел в своей кровати. На стуле висела аккуратно сложенная рубашка с красной звездой на груди и новая, похожая на испанскую, прямоугольная пилотка.
Сегодня был майский праздник – и через два часа мальчик побежит к школе. Там их соберут, и в одной колонне с пионерами они пройдут мимо могил и вождей. Мальчик будет идти под рокот барабана, и жалко отдавать эти часы площади и вождям – но ничего не поделаешь.
Нужно притвориться, что все идет как прежде, что ничего не случилось.
Академик смотрел на сына и понимал, как он беззащитен. Все стареющие мужчины боятся за своих детей и особенно боятся, если дети поздние.
Жена Академика грустно посмотрела на него с портрета. Огромный портрет, с неснятым черным прочерком крепа через угол, висел напротив детской кровати – чтобы мальчик запомнил лицо матери.
А теперь жена смотрела на Академика – ты все сделал правильно, даже если ты не успел главного, то все остальное ты счислил верно. Я всегда верила в тебя, ты все рассчитал и получил верный ответ. А уж время его проверит – и не нам спорить с временем.
Звенел с бульвара первый трамвай. День гремел, шумел – и международная солидарность входила в него колонной работниц с фабрики Розы Люксембург.
“Вот интересно, – думал Академик. – Первым в моем институте забрали немца по фамилии Люксембург”. Немец был политэмигрантом, приехавшим в страну всего четыре года назад. Ученый он был неважный, но оказался чрезвычайно аккуратен в работе и стал хорошим экспериментатором.