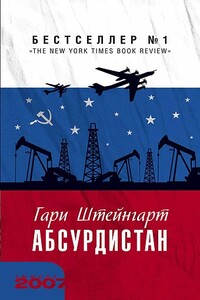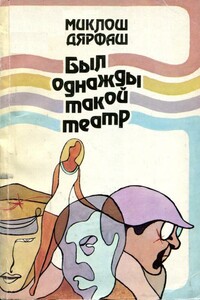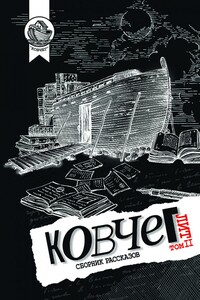Газеты в степную роту завозили, как картошку: на месяц, на два или уж до весны, чтобы не тратиться зря на горючее и не баловать. Завозили прошлогодние, из расстроенной полковой читальни, где подшивки успевали обворовать. Но и раскромсанные – сообщая о чем-то большом и важном, что свершилось давно и без их ведома, газеты, бывало, выдавливали у ротных слезу. Узнавая так поздно, так сразу обо всех мировых событиях, солдатня пускалась расходовать свою и без того пропащую жизнь. На службе распивали водку да храпели, а казарму прокуривали, грязнили в ней, синюшной, полы. Но и посреди этого разгуляя слышалось, как занудно перемалывают прочитанное, жалея позабыть. Слово за слово – разговорцы промеж служивыми крепчали, так что у всякого являлось особое мнение, и если вдруг вылезало на свет событие поважней и побольше, а четкая политическая оценка отсутствовала, случался мордобой.
Ничего не ждал от жизни один капитан Хабаров. Он если подсаживался в круг читчиков, то украдкой вливал свою застарелую тоску в общую, как считалось – по международному положению, которое ухудшалось у всех на глазах. Капитан даже не заглядывал в газеты. Эти нездешние новости ему сообщались в свою пору по телефону теми удачливыми знакомцами, какие насиживали местечки в самом карагандинском полку. Сообщались, можно сказать, из былого уважения, но Хабаров и тогда в далекую их брехливую речь не вслушивался, тосковал.
Иван Яковлевич Хабаров явился на казенную службу не по расчету или принуждению, хоть добрая его воля мало что прибавляла, будто нуль. Вот и в солдаты его забрили, как и всех. Но Хабаров служил добротно, и своим чередом вышло, что произвели в старшины. И да будет известно, что в старшины попадается совестливый человек, труженик, который все выдюжит, сколько бы ни взваливали, и притом не уберегая своего живота, не пьянствуя, не воруя из общего котла или распяленного казенного кармана. Когда истек срок службы солдатской, подневольной, отовсюду Хабарова упрашивали остаться тем же старшиной. Свой брат, казарменный, его удерживал: «Может, еще послужишь? Погоди, вместе веселей!» А начальство умасливало: «Оставайся-ка, Иван, это ж твое твердое место, а что на гражданке ожидает, какой ты, к сволочи, гражданский человек?!»
Служивый человек обнаруживался в Хабарове по натруженности всего облика, по скупым и грубым чертам. Этот знак был глубже, чем столбовая стать, которую наживают на плацу солдафоны. Старшина был человеком коренастым, приземистым, похожим правдивей на горб, чем на столб. Солдатские черты делали его безликим, сравнимым разве что с миллионом ему подобных служак. Однако тот миллион образовывал гущу народа, в которой исчезает всякий отдельный человек. Хабаров родился у простых людей, которыми и назван был как проще. Не имел семи пядей во лбу, не имел готового наследства и уже поэтому увяз в той гуще, из которой и явился на свет. Суждено ему было, вот уж правда, замешаться в ней будто комком. Жизнь в той гуще не перетекает по годам и годами не сотрясается. Время тут не приносит легких, быстрых перемен, а потому живут вовсе без него, разумея попросту, что всему свой черед. Что замешивалось, про то узнают через века. А кто жил да помирал, так ничего и не узнает. Остался Иван Хабаров служить – за паек и рупь казенного жалованья, которым не побалуешь. Что бы ни случилось, Хабаров думал: «Поворачивать некуда, надо терпеть». И он же думал, что бы ни случилось: «Это еще не конец, погоди, что впереди будет».
Вот и теперь, в том безвестном времени, в каком нашей повестью пересекся его долгий путь, Хабаров в пыльных капитанских погонах дослуживал в одной из темных лагерных рот Карагандинки, намаявшись по лагерям от Печоры до Зеравшана дольше вечного урки, а большего не выслужив.
Должно сказать, что Карабас, как прозывалось лагерное местечко, был известен людям с глубокой древности. Местечко приметили в степи еще казахи, в период феодальной раздробленности. Переложенное с их языка, прозвище звучало как Черная Голова. В нынешнем же веку казахов близко с Карабасом и видно не было. Они населяли дальние колхозы, разводили овец. Случалось, степняки заезжали в поселенье, чтобы хоть поглазеть на лагерь и надеясь разжиться казенным барахлишком. И когда их выспрашивали, отчего дано такое угрюмое название, казахи, ерзая глазками по округе, признавались, что и сами не знают, где углядели черноту и откуда привиделась голова средь стертой степной равнины. Сопки, курящиеся вдали и окружавшие местечко серой дымкой, вовсе не походили на головы, а каменистые гребни чернели в промозглую пору, походя на гнилушки. Зато просторов тут было вдоволь. Ни растительность, ни пашни, ни реки не утруждали степной землицы, не стискивали. Новые люди, однако, селились в древней степи не ради просторов. Место было выбрано так, будто плюнули со злости и отсель, где наплевали, принялись жить.
Карабас разделялся на две части, из которых самой невзрачной была лагерная рота, а другая, прущая по степи навроде баржи, – лагерем. И рота и лагерь строились в один замес, но с годами их наружность по многу раз скривлялась, а времянки так же бойко строились, как и разрушались. Магазинов, учреждений, домов, церквей поселок на своем веку не ведал. Одни унылые бараки, схожие с конурой, вокруг которых и раздавался дурной овчарочий лай. К баракам тянулись вытоптанные сапогами стежки, такие узкие, будто люди ходили по краю, боясь упасть. Эти же стежки уводили к тупикам, обрываясь там, где начинались закрытые зоны и всякие другие запреты. Вольный доступ открывали Карабасу лагерная узкоколейка да степной большак, обрывавшиеся далеко за сопками. Еще уводил от лагеря, на отшиб, почти не примечаемый могильник, куда больничка захоранивала бесхозных зэков. На том месте временами являлся свежий перекоп. Вот и все сообщение, если так считать, все пути да выходы. Сказать правду, в Карабасе прытко сообщались лишь барачные вши, гуляя от солдат к зэкам и в обратную, будто вольная воля. Вши ходили друг к дружке в гости, выпивали и закусывали, плодились по сто штук. А люди страдали от чесотки, давили торжествующих гадов, которые и роднили их покрепче, чем всякая мать.