В жилах его текла, будто по дряхлым трубам, тяжелая, ржавая кровь, так что вместо прилива сил, только начиная жить, осиливал он усталость, что бы ни делал, и растрачивал беспробудно дни, как в порыве отчаяния, вспыхивая вдруг жарким, могучим желанием жить, добиваться всего лучшего, но и угасая потихоньку в буднях. Всю эту жизнь он точно бы знал наперед: в ней случится то, что уже случилось. Потому пронзительней вспоминалось прожитое, и памятней всего было детство. Хотя скитание по гарнизонам за отцом, однообразная неустроенность и его, отца, вечным комом в горле немота и безлюбость могли лишить чувств.
Дети, а их в семье было двое братьев, не ведали ни дедок, ни бабок, живя спертым духом и слухом взаперти. Мальчики родились и выросли в разных городах, не в одно время, а точно разломанные разными десятилетиями, так что и братья были чужими, друг дружке не сродни. Гнетущий дух сиротства гнездился в отце. Кто родил его на свет, тот и подкинул, сбежал, сгинул бесследно в просторах, не желая отныне видеть его да знать, к умершим – и то на могилку ходят люди. Эта обида выжгла душу отца и обуглила. Отныне сам он не думал о тех, кто его родил, даже как о мертвых. Он ребенком выжил войну. Выжил после войны. Путевку получив в жизнь, сын народа не двинулся с места и работал в городе Копейске на угледобыче. Хотел в техникум, жажду имея выучиться на горного инженера, но позвали служить, откуда уж не смог вырваться, не вернулся из армии, обретя себя в служении отечеству.
Все ему хотелось, Григорию Ильичу, чтобы как у людей, но и чуточку больше хотелось, ведь обиду-то вдохнули в него, а не выдохнули. Когда швырнуло служить в Борисоглебске, то пригрелся к дому своего ротного командира, который его отличал да и любил, простой человек, все одно что сына. У командира-то своего такого не было, хоть густо, да пусто, одних девок нарожал. Так что и матери, которая вечно с животом, на всех не хватало – старшая, Сашенька, командовала в доме и сестрицами. Молчком сошлись они с Григорием Ильичом – тот помогал командиру по хозяйству, навроде работника, а выходило, что Сашеньке всегда и помогал, был при ней работником, она же его и кормила. Было той Сашеньке шестнадцать лет, школы еще не окончила. Григорию Ильичу год службы оставался. Командир дочку берег и с усмешкой, но говаривал солдатику: «Ты, Егорка, гляди, глаза-то не пяль, гол ты, как сокол, Сашке такого жениха не надо, да и сгодится в хозяйстве, пускай матери поможет, сестер на ноги поднимет, а потом невестится». Но вышло так, что сговорился Григорий Ильич с Сашенькой, и Сашенька решилась. Вот пьют они вечерком чай, все в сборе да в командирском доме.
«Я за Егора выхожу, у меня от него ребенок будет», – говорит Сашенька.
Командир чуть со свету не сжил Григория Ильича, а думал и пристрелить, много чего было. Но делать нечего. Срок был родить Сашеньке, а Григорию Ильичу был срок увольняться из Борисоглебска – и командир смирился. Родился у него внучек, в котором он уж души не чаял, в его честь нареченный, Яков. Зятька у себя пристроил служить, как смог, на хлебную складскую должность. Сашка опять же под рукой. Живут, что птички в гнездышке. Но говорит Сашенька, двужильная, будто очнулась: «Егору на офицера надо учиться, я поеду с ним».
Григорий Ильич выучился, и с того времени, как получил он самостоятельное назначение, никогда они в Борисоглебск ни с внучком, ни поодиночке, ни как-нибудь проездом не заявлялись. Только в другие времена ездили хоронить старого командира, а хоронить мать отправилась в Борисоглебск уже одна Александра Яковлевна. Григорий Ильич отпускать упорствовал. Накладно, а еще станут младшие из нее на похороны да на помин вымогать. Да еще если застрянет поминать. Детей оставляет, а Григорий-то Ильич все привык на готовом жить – воротится в дом, кормилец, весь в службе, так и зовет Сашу, чтоб сапоги стаскивала, а то сам устал. Но и обида, глубокая, темная: ему-то хоронить некого, семейства же всего борисоглебского, тех хитрожадных сестер и деток их, босяков – так и норовят проездом на шею его засесть, племянькаются, – он не жаловал. Из всех, из борисоглебских, один он, Григорий Ильич, что-то в жизни выслужил, но не так гордился, как боялся их близко подпустить, вечно стонущих да обездоленных, даже проездом. Они своей пусть жизнью живут, а мы своей. Я помощи у них не попрошу, так пускай и у меня не просят. Мы как уехали, так не видели их добра, вон и Якова, и Ваську подняли сами, ничего у них не просили. Они же только и жили за счет отца с матерью, так пускай хоть мать похоронят, будут людьми. На отца-то давал им сто рублей памятник поставить, а ничего не сделали, так и не прислали фотографии, небось сожрали да пропили. К ним ездить только себя гробить, не пущу. Да накрикнула Сашенька, дала волю не слезам, а гневу, и Григорий Ильич не посмел, отступил.
Этот крик в темном гулком доме, когда отец уж и замахнулся, чтобы ударить мать, но так и не посмел, был его, Матюшина, первой в жизни памятью. Помнил он, что убоялся отец тогда детей, оттолкнули его дети, которыми загородилась как щитом мать, – старший, подросток, и он, комок в ее каменных неприступных ногах, больно сжатый ею за плечи, точно не руками, а тисками. И он помнил, что сказал отцу: «Брежнев женщин бить запрещает». И ужас помнил на лице отца от этих слов, страх его и бегство.


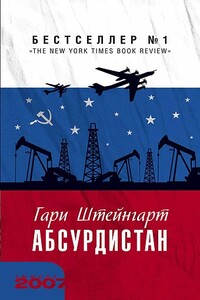




![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)


