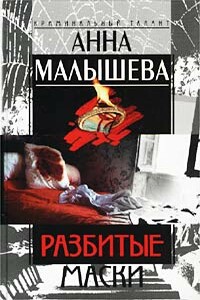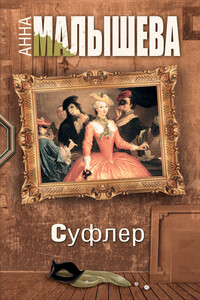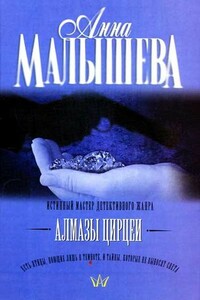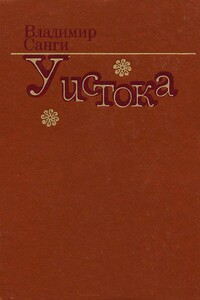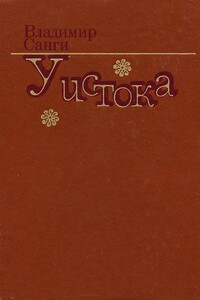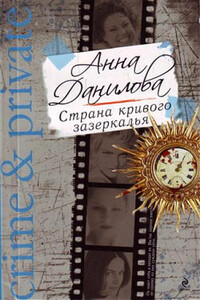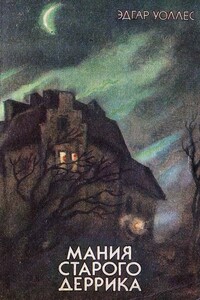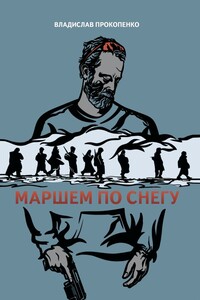– Я всегда говорил, что место довольно глухое!
– В том-то и прелесть, – сказала женщина, стараясь перевести дух после крутого подъема в гору. – Жаль, что солнце уже село…
Остановившись у ограды, она снова прижала к глазам тыльную сторону ладони, пытаясь удержать слезы. Ее спутник терпеливо ждал, пока она отыщет в сумке ключи и ощупью найдет замочную скважину в калитке. Фонарика они не захватили, никто из них не курил, так что не было и зажигалки. Наконец самый массивный ключ подошел – калитка дрогнула и со скрипом поддалась.
Двор встретил их шумной свежестью сирени. Деревьев не было видно, но цветы благоухали в темноте так, что начинала кружиться голова. С реки тянуло свежестью, поднимался ветер.
– «В сто сорок солнц закат пылал, в июль катилось лето…»
Он не видел ее лица, но в голосе слышалась грустная, будто заплаканная улыбка.
– «Была жара, жара плыла, на даче было это. Пригорок Пушкино горбил Акуловой горою…»
«Надеюсь, она не собирается читать все стихотворение наизусть…»
Однако снова раздался звон ключей – теперь женщина пыталась отворить дверь, ведущую в дом.
– Ну вот, – послышался ее голос из темных сеней. – Наконец-то…
Под низким потолком вспыхнула лампочка. Он опустил веки – после густых сумерек свет нестерпимо резал глаза. Из мрака выступил массивный окованный сундук, замшелая вешалка, полускрытая под каким-то невообразимым тряпьем… Женщина прошла в комнату и зажгла лампу. Серое сумеречное окно мгновенно стало черным.
– Я никогда не думала, что вернусь в этот дом, – сказала она, обводя взглядом дощатые стены. – Вернусь вот так… Как захватчица!
– Ты недовольна?
Вопрос остался без ответа. Она даже не повернула головы, не пожала плечами. Подошла к стене, коснулась запыленных часов, протерла старомодный пластиковый циферблат без стекла. Золотистые стрелки показывали ровно час – неизвестно, дня или ночи.
– Подумай только, – продолжала она, переходя от кровати к комоду, от комода к столу и везде пробуя пальцем слой пыли. – Сколько было наследников, кроме меня! Я ни на что не рассчитывала. А дом все равно достался мне…
– Ты как будто огорчена?
На этот раз она обернулась. Ее узкое, оранжевое от света лампы лицо осветила бледная, дрожащая улыбка. Женщина как будто опять собиралась заплакать. Она склонила голову, и волосы темно-рыжей волной упали на плечи, плотно обтянутые черной траурной косынкой. Прозрачный кусок черной, наспех скроенной материи придавал ей какой-то неряшливый деревенский вид. И ему вдруг показалось, что рядом с ним стоит какая-то чужая, незнакомая женщина.
– Не знаю, – ответила Наташа. – И нет и да. Когда-то я сбежала отсюда, как из тюрьмы… Потом иногда думала об этом доме… Приходилось! Но вернуться вот так, последней из всех… Этого я не хотела!
Они заночевали в одной из тесных комнаток, позади засаленной кухни, рядом с лестницей на чердак. На сам чердак не залезали – света там не было. Наташа то и дело улыбалась – грустно, робко, как будто про себя.
«Лучше всего продать этот дом, как можно скорее, – твердил про себя Павел. – Не могу видеть эту улыбку! Она становится похожей на сестру, когда улыбается так странно!»
Богатое наследство свалилось на них неожиданно. Наташа любила повторять, что не рассчитывает на него, и вот… Большой деревянный дом в престижном месте – в Пушкино, на Акуловой горе, в сорока минутах езды от центра Москвы. Можно сказать, в историческом месте – по соседству со сгоревшей дачей Маяковского, где тот сочинил знаменитое стихотворение. Земля здесь ценилась очень высоко, да и сам дом чего-то стоил. Сперва она не поверила… Впрочем, мысли о деньгах в тот миг ее не посетили. Наташа была убита страшным известием и даже не думала о том, что разом разбогатела…
Она покинула этот дом пятнадцать лет назад. Все произошло само собой – но в то же время, было подготовлено ею, как заранее спланированный побег из тюрьмы. До школы Наташа добиралась полчаса – летом по крутым пыльным дорожкам, осенью – в грязи, зимой – по обледенелым склонам. «Мы шли в школу, как Филиппки, – шутила она, исповедуясь мужу. – Только головы из снега торчали. Посмотришь налево-направо – и хочется плакать. Черные фигурки через сугробы лезут в школу… За знаниями…»
На Акуловой горе было немало жилых домов, а там жило немало детей, и все ходили в школу… Но одна Наташа уехала учиться в Москву – другие остались здесь. Пошли работать, спились, очертя голову повыходили замуж, слишком поспешно нарожали детей… Но для Наташи этот мир стал слишком тесен, так же, как и старый дом, где жила ее семья. Она уезжала с твердой целью – не возвращаться. Не потому, что была здесь несчастна, а потому, что хотела чего-то иного. Она не ждала никакого наследства… Но наследство само ее дождалось. Дом был пуст.
Когда она уезжала, то оставляла здесь двух старших братьев и младшую сестру. И еще отца. Мать умерла давно, еще молодой, вскоре после того как родила Анюту. Четвертые роды были трудными, и женщина после них так и не оправилась. Девочки не помнили лица матери, зная его только по фотографиям. Когда та умерла, братьям Наташи было десять и восемь лет, ей самой три года, Анюте едва исполнилось шесть месяцев. Ее вскармливали искусственно. С полинявших глянцевых карточек на детей глядела суровая, худощавая женщина с крутой бесцветной завивкой. Она казалась старше своих неполных тридцати лет. Замороженный взгляд ее прозрачных глаз не выражал ничего, кроме подозрительности. Так смотрят хозяйки на рынке, заранее уверенные, что их обвесят и ничего с этим не поделаешь.