Тучный полнощный лис, вынырнув из густого ягодника, предерзостно уставился на атамана.
Когда сулица, брошенная поотставшим Сенькой, разбрызгала недолетом первый снежок, Ивашка Кошкин не успел даже рта разинуть. Песец же, тот будто и бровью не повел.
Мнилось, сатане лисовину отменно ведомо, что брать его государевым людям более нечем. Ладить западни - дело не одного часа. Про мушкет, безнадежно портящий всякую мягкую рухлядь, не стоило и вспоминать. Про рогатину и подавно, если не уповать, что зверь от одного вида диковины доброй волею помрет со смеха. Луков же казаки при себе не имели, затем, что в безымянную губу, где нынче отстаивались, ватагу загнало многодневной бурей, не оставившей сухого места ни на кочах, ни на людях. Потому Ивашка, уходя пошарить окрест, наказал с бережением сушить тетивы над малым костром да сверху его - от всяких даров небес - накрыть парусиной, глаз же с костра не спускать ни днем ни ночью.
Сейчас, на третий-то день, тетивам, пожалуй, полагается уж просохнуть. Только в налучь, просохшие, святым духом они все равно не прыгнут…
Тетивы тетивами, а свою затрещину Сенька заслужил все равно.
- Иване?!…
- Семенка, сукин сын, драть твою оглоблей!! Двадцать раз говорено: не можешь - не берись, а коли кидаешь - так с десяти сажен и не боле! Кто в нганасанах ушкую ухо отстрелил? Кто у чукоч нерпу не добрал, единого срама перед погаными сколько?! У, аспид, руки кривые, поди сулицу подбери и сюды дай, пока до греха не довел!
Песец, с любопытством следивший за облегчением атаманской души, ленивыми прыжками исчез в жимолости, стоило Сеньке сдвинуться с места.
Прошли еще пару верст вдоль подошвы немаленькой сопки с угадывающимся в тумане тяжелым ледяным венцом. Следов по свежему снегу обнаружилось во множестве.
- Шабаш, - решил Ивашка, когда одесную плавный подъем на горушку сменился непотребной кручей, а недоступная глазу речушка, что весь день едва слышно звенела где-то слева, вдруг показалась в промоине, саженях в тридцати под ногами.
- Шабаш, - повторил он казакам под вечер следующего дня. - Бога гневить не будем, зимовать нам здесь. На полдень, конешно, пройти еще можно, ан когда зима падет, поздно будет обустраиваться. Завтра же почнем рубить острожец. А зимой скучать не придется, пушнины здесь богато, кабы не Сенька, антихристово семя, уже сей день показал бы добычу, а так пока верьте на слово. Кто не заленится, тому на Руси гулять с бабами не перегулять. Я об этих краях не первый раз зимую, еще отроком с Дежневым сюда хаживал, слово мое верное. Есть несогласные?
Несогласных не оказалось.
Три десятка здоровых мужичков и впрямь провели зиму в достатке, страдая разве сухими глотками - вино подносилось нещедрой атаманской рукой лишь по большим праздникам. До морозов поставили малый острог. От жадности рискуя нажить грыжи, били оказавшегося почти непуганым зверя. Как минуло рождество, самые оголодавшие, не дожидаясь Руси, повадились на недальнее, верст тридцать, становище по горячему обоюдному согласию портить корячек; возвращались до изумления смердящими китовым жиром и иной стервятиной. Кошкин, усмехаясь в бороду, не стал ждать общего лая: велел срамникам топить баню опричь, запасая дрова для сего собственным иждивением.
Добыча до того удалась, что по весне немало горячих голов возмечтало о второй зимовке. Неизвестно, пресек бы атаман мечтания краткими мирскими словами, не яви первооткрытая горушка знамения адским пламенем и жупелом текучим.
К середине июня достигли устья Амура, под самый новый год - Шилки.
Смурным сентябрьским вечером, томящийся от скуки и выпитого за месяц на твердой земле, Кошкин жег в новоставленном Нерчинском остроге благоухавшую отнюдь не ладаном тюленью свечу, выводя грамоту воеводе в Тобольск:
"…а людишки все здоровы и веселы токмо двое есчо в Студеном море потонули в бурю да единого в Камчатке медведь задрал так что и хоронити не можно бысть. А промысел вышел доброй, того для гору огнянну, у какой зимовали, нарекли Песцовою сопкою, а губу, где кочи стояли, Покровскою, ниже зимовати решилися о Покрове пресвятой нашей заступницы…"
До первопутка оставалось никак не менее месяца, до казавшегося почти родным Красноярского острога - поболе трех. Не допиться с безделья до скачущих по горнице бесенят - тоже умение. Атаману его было не занимать.
Где грань, за которой свое становится чужим, часть - целым, плоть от плоти - смертельной угрозой?
Специалисты могли бы рассказать много интересного. Схоласты - и подавно. Нимало не озадачиваясь спецификой предмета.
Но и самый оптимистичный специалист, и самый изощренный схоласт согласятся, что эта опухоль свою грань давно перешагнула. Себя она не сознает, поэтому нет смысла спрашивать, стала ли опухоль собой полтора года или полтора десятка тысячелетий назад. Организовав совсем иную первоматерию качественно новым образом.
Очень долго, больше девяти десятых своего существования, опухоль росла совсем медленно, временами даже и уменьшаясь, когда фронтир становился к ней не так равнодушно благосклонен, как обычно.

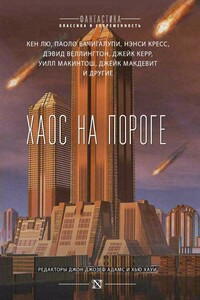
![Ордер на молодость [с иллюстрациями]](/storage/book-covers/1b/1bcfc6fc04219ed8786919c4325fd8f672904f35.jpg)
