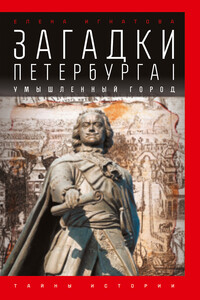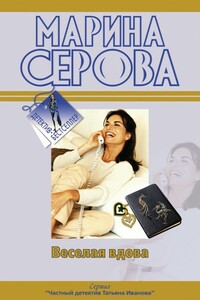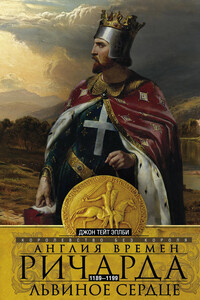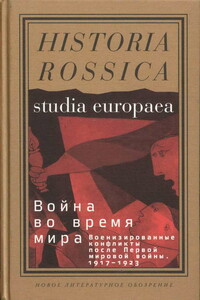Эта книга о послереволюционной эпохе, о драматическом периоде в жизни нашего города и всей России. Жизнестойкость народа в значительной степени зависит от прочности его связи со своим историческим прошлым, каждое новое поколение наследует родовые черты вместе с религиозными, культурными, нравственными, семейными традициями предшествующих. В осмыслении прошлого формируется самосознание нации, и пока эти связи сохранены, у народа есть будущее, а с их отмиранием он может исчезнуть как историческая общность.
В первых десятилетиях ХХ века многим в России казалось, что так и произошло, что Россия гибнет, ее великая история завершилась и народу уготована судьба безличной «массы», человеческого материала в борьбе за победу мировой революции. В 1926 году ленинградка Евгения Александровна Свиньина писала родственникам в Париж: «Думаю, что лет через десять-пятнадцать в России выработается совсем новый язык, внешность и характер, о русском человеке останется только историческое воспоминание по учебникам, как о человеке каменного века и плезиозаурусе… и эту новую породу людей трудно будет убедить, что они потомки Суворовских, Кутузовских героев». А раньше, в 1922 году, она обращалась к внучке Асе: «Не забывай, что ты русская, а это теперь надо особенно беречь и охранять, дабы в таких, какой ты должна быть и будешь, видели, на что способны и чем могут быть русские, и не судили бы их огульно… Помни, что русским теперь особенно следует дорожить своей репутацией… дабы История не отвергла нас». Тогда казалось, что в России происходит нечто небывалое.
Да нет, не небывалое, достаточно вспомнить Великую французскую революцию и ее следствия, результатом которых стало не возрождение, а скорее вырождение нации: за четверть века террора и войн (1789–1814 гг.) население страны уменьшилось почти на четверть. Однако радикальная российская интеллигенция вдохновлялась примером Великой французской революции, а будущие революционеры усваивали ее уроки как руководство к действию. У французских революционеров XVIII века было чему поучиться, особенно в области террора, истребления аристократов и священников, массовых казней заложников, расстрелов демонстраций.
Историк французской революции Томас Карлейль писал о «республиканских свадьбах» (мужчин и женщин связывали вместе и топили в реке), о мастерских, где из волос казненных изготовляли парики, о кожевенной мастерской в Медоне для «выделки человеческих кож; из кожи тех гильотинированных, которых находили достойными обдирания, выделывалась изумительно хорошая кожа наподобие замши, служившая для брюк и для другого употребления. Кожа мужчины… превосходила прочностью и иными качествами кожу серны; женская же кожа почти ни на что не годилась — ткань ее была слишком мягкой». При подавлении восстаний в Вандее там расстреливали по 500 человек зараз, в Нанте целыми семьями сгоняли на приготовленные для затопления барки, не щадили и детей. «Это волчата, — говорили палачи, — из них вырастут волки». Кое в чем победившие большевики пошли дальше предшественников: если во Франции казнили короля и королеву, то в России императорскую семью расстреляли вместе с детьми. Но разве участь дофина Луи-Шарля, сына Людовика XVI, менее ужасна, чем судьба цесаревича Алексея: вскоре после казни отца восьмилетнего мальчика разлучили с матерью и отдали сапожнику Симону, «служившему тогда при тюрьмах Тампля, чтобы воспитать его в принципах санкюлотизма», писал Карлейль. Тот «научил его пить, ругаться, петь „Карманьолу“… и бедный мальчик, спрятанный в одной из башен Тампля, из которой он от страха, растерянности и преждевременной дряхлости не хочет выходить, лежит, умирая среди грязи и мрака, в рубашке, не менявшейся в течение шести месяцев». Он умер в 1795 году, в возрасте десяти лет. Такая судьба едва ли лучше гибели в подвале Ипатьевского дома.
Большевистские вожди хорошо усвоили уроки французской революции и не собирались повторять ее ошибок. Ленин считал, что Робеспьера и его соратников погубила недостаточная жестокость и твердость. Мы можем наглядно убедиться в его правоте: могилы Робеспьера в Париже нет, он был зарыт в одной из общих ям, где хоронили казненных, на кладбище Пик-Пюс («Лови блох»), а останки Ленина выставлены в центре столицы растерзанной им страны. Менее удачливым соратникам вождя, расстрелянным в 30-х годах, возможно, вспомнилось перед смертью сказанное за полтора века до того во Франции: «Революция пожирает своих детей». Им нравились такие звонкие фразы, пока они не имели отношения к их собственной судьбе. Я не могу разделять большевистских вождей на тиранов и умеренных, на более или менее жестоких, потому что все они составляли единый механизм, исповедовали одну идеологию и служили общему делу.
Само слово «вожди» архаично. Жестокой архаикой веет от идеи уничтожения целых классов (это напоминает истребление побежденных народов в древности), от гекатомб казненных в Петрограде после убийства Урицкого — так приносили кровавые жертвоприношения на могилах племенных вождей. При власти адептов «самого передового в мире учения» жизнь страны погрузилась в глубины архаического прошлого; читая Ленина, думаешь, из каких времен его неистовое требование массового истребления людей; пока не отказала речь, не отнялась рука, он выводил расползающимся почерком «расстрелять, расстрелять…». Другие его распоряжения воскрешали времена крепостничества, «барства дикого, без чувства, без закона» — так, в 1922 году он велел наказать нерадивых правительственных чиновников: «За это надо гноить в тюрьме… Москвичей за глупость на 6 часов клоповника. Внешторговцев за глупость плюс „центрответственность“ на 36 часов клоповника. Так и только так учить надо…» Ученый марксист знал не хуже крепостницы Салтычихи, кого «гноить», а кого и на сколько сажать в клоповник.