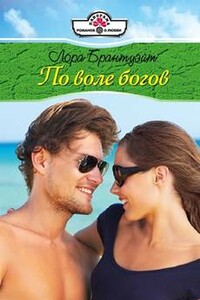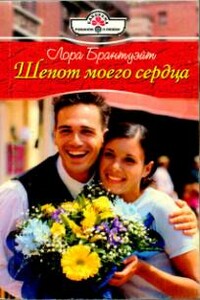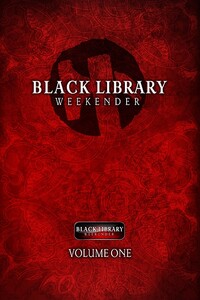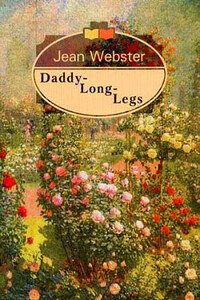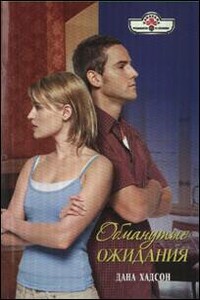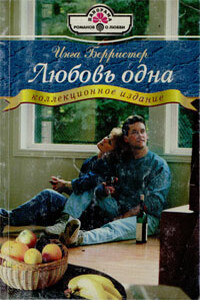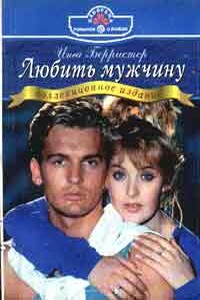Кэндис сидела перед туалетным столиком и расчесывала волосы. Она занималась этим уже минут двадцать, а потому ее локоны — мягкие, полные сияния — струились по плечам, и солнечные лучи, которые лились в комнату сквозь окно, отражались от них бликами, как от воды в реке. Рука, сжимавшая щетку, слегка занемела, и похожее сладкое онемение распространялось по коже головы от монотонных прикосновений мягкой щетки.
Ей казалось, что она вот-вот заснет, но глаза оставались широко раскрытыми, как будто отказывались закрываться. Предатели.
Кэндис всмотрелась в свое отражение в зеркале: она похорошела за последние дни, что удивительно. Оказалось, что ей потрясающе идет бледность, особенно когда на белом, как алебастр, лице ярко, углями горят потемневшие глаза и тревожно розовеют губы. Можно запатентовать свою методику для салонов красоты: стресс-терапия вместо спа-терапии. «Изменитесь до неузнаваемости за несколько часов. Ваши черты станут четче, жестче, ваши глаза зажгутся нехорошим огнем, вы станете драматически красивой и опасной. Если вы собираетесь на войну, мы превратим вас в самую прекрасную из амазонок».
Нет, она бредит. Это хорошо — это интересно. Но плохо, что наяву, а сон все не идет. Кэндис уже трое суток не встречалась с Морфеем. Она прилежно ложилась спать в положенное время, накрывалась одеялом с головой, смыкала веки и лежала, пока духота не выгоняла ее наружу, сдергивала одеяло и глотала прохладный воздух, переворачивалась на другой бок, натягивала одеяло на ухо, снова стискивала веки, так что в глазах зажигались золотистые пятна, и считала, считала...
После двух тысяч считать надоедало, и Кэндис зажигала лампу, брала книгу и читала. В конце концов буквы сливались в непонятный узор, зато Кэндис отчетливо видела сквозь этот узор пейзажи и интерьеры, разговоры и немые сцены, и даже мысли героев... Потом начинало светать, и она, счастливая приходу утра, тащилась в душ — на бодрую поступь не хватало сил — и долго мылась, меняя одно мыло на другое, один гель на другой.
Потом начинался день. Кэндис одевалась, делала прическу, спускалась к завтраку, по давно заведенному ритуалу целовала в щеку отца и маму — сначала его, потом ее, — пила кофе, ела тосты, и мармелад, и что еще подавали Генриетта и Мина.
Потом Кэндис делала что-то не менее бессмысленное и безрадостное, пустое и пошлое: отправлялась на пробежку, занималась йогой с тренером, ходила по магазинам, звонила подругам... С ума сойти, как же так: раньше, еще неделю назад, эти занятия казались ей важными и нужными, и она получала удовольствие от них, улыбалась родителям, смеялась в телефонную трубку, млела от ощущения растягиваемых мышц и связок, наслаждалась ритмичными, пружинными касаниями ног асфальтовой дорожки?
Она не понимала, что именно с ней произошло: началась ли у нее новая жизнь или только закончилась старая, а может быть, она заснула, впала в летаргию или, наоборот, проснулась.
Ясно одно: все, что было прежде, ее больше не устраивает.
Потому что Маркус ее предал.
Конечно, с точки зрения общечеловеческой нормальной логики, той логики, которая присуща мужчинам и которую преподают в колледжах и университетах, эти явления никакими отношениями между собой не связаны, тем более — причинно-следственными. Но любая женщина поймет, что значит эта трагическая цепочка...
Кэндис не любила Маркуса. Точнее, не любила его последние два года, в первые полгода их романа она была влюблена в него, как кошка. Но что с нее взять, она тогда была очень юной, совсем другим человеком. Да и вообще, психологи говорят, что состояние влюбленности держится от трех месяцев до полутора лет. А дальше...
А что дальше?
Когда Кэндис осознала, что чувства ее к Маркусу остыли, у нее был выбор: распрощаться с ним навеки... или попробовать продолжить отношения, вдруг что-то еще получится, пусть не такое ослепительно-праздничное, похожее на фейерверк, как было вначале, но все-таки... Ее родители живут вместе уже тридцать лет, и, сколько Кэндис себя помнила, они не целовались по укромным уголкам, не держались за руки и не устраивали салютов в честь друг друга. Но все-таки именно их отношения в ее картине мира были эталоном любви.
К тому же Маркус так оригинально просил дать ему еще один шанс, чтобы завоевать ее сердце.
— Если мне удалось завоевать тебя однажды, значит, удастся еще и еще. Это как задача в физике на одну формулу: решил одну — решишь и все похожие, — уверенно сказал он.
Он был экономистом по профессии, но сходил с ума от физики. Если бы его отец, президент крупного банка, не так страстно желал передать дела в руки наследника, Маркус, возможно, стал бы ученым. Но у него не было свободы выбора, а потому он стал финансистом и говорил о физике, как иные говорят о поэзии или живописи.