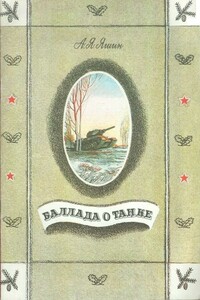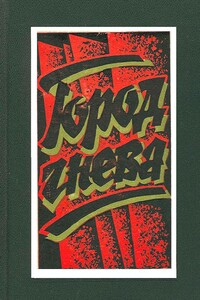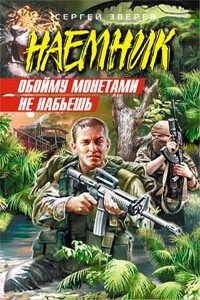В плохую погоду даже дым из труб поднимается с трудом — стелется он по крышам, по земле. Люди задыхаются, кашляют, настроение у всех дурное, собаки злые, куры не кудахчут, петухи кукарекают неохотно.
А Нюрка должна вставать рано. Дым подняться не может, а ей надо подниматься и, наскоро умывшись и перекусив чего-нибудь, бежать по узенькой снежной тропке на самую далекую окраину деревни, на свиноферму.
Несколько лет назад, когда в колхозе был выстроен новый свинарник на двести голов, люди радовались: это же дворец, санаторий! А что изменилось? Свинарник новый, можно сказать, образцовый, не хуже скотного двора или конюшни, а жизнь-то в нем все равно свинячья. Редкий год не бывает падежа. И хоть бы из-за болезней каких-нибудь, а то ведь просто из-за недостатка кормов, от голодухи.
Нынешняя весна оказалась затяжной, а потому особенно трудной: корма уже все, а земля еще не очистилась от снега.
Нюрка часто жаловалась матери:
— Матынька, родненькая, вся душа у меня изболелась. Мне самой скоро кусок в горло не полезет, так жалко их! Особливо маленьких жалко. Ты только подумай: рождаются, чтобы голодать! Да что же это такое?
— Откуда я знаю, что это такое? — отбивалась мать от ее недоуменных вопросов. — Если бы кто-нибудь знал, что это такое! Ты, главное, гляди в оба. Голодные свиньи — звери!
— Звери, мама, верно, что звери! Они у нас все кормушки деревянные изгрызли, перегородки грызут. Надо же!
— То-то оно и есть! А ты — вон ты какая, от горшка два вершка. И тоненькая, с перехватом, будто оса. Схватят — и все, и домой не воротишься. Выдвинули тоже девчонку в свинарки, совести у них нет.
— Я, мама, каждое утро, как ухожу из дому, со всеми с вами в уме прощаюсь. Мне один раз во сне привиделось, будто свиньи схватили меня за подол и сперва всю одёжу с меня сорвали да изжевали, а потом и меня стали есть. Я кричу, а они меня едят, я кричу, а они едят. То одно место откусят, то другое. Пробудилась, когда у меня уже ни рук, ни ног не стало.
— Вот я об этом тебе и толкую, — наставительно говорит мать. — Смотри в оба, не поддавайся, отвертывайся от них. Звери — они звери и есть.
— Мне бы хоть подрасти немного дали, а потом бы я ничего, не поддалась бы. Только подрасту ли я, может, уже всё, такая коротышка и буду? Ты, мама, скажи председателю, чтобы поставили на свиней кого-нибудь другого вместо меня, покрепче.
— Я уж говорила не раз, доченька, — сокрушенно вздыхает мать. — Загубите, говорю, мне девчонку до поры до времени. Да ведь что поделаешь, работать-то некому. Не одна она, говорят, на ферме, ничего не стрясется. А намедни председатель как рявкнет на меня: что ты, говорит, пристаешь, как будто твою Нюрку уже свиньи съели! Я говорю: не съели, дак ведь съедят. Ну, говорит, когда съедят, тогда и отвечать будем.
Разговаривая с дочерью, Катерина Егоровна не стояла на месте и не сидела, а либо делала что-нибудь по хозяйству, либо ходила по избе, скорее бегала, чем ходила, и, заправляя подол сарафана с боков и спереди за пояс, высматривала заранее, за какую очередную работу ей следует приняться. Невысокая, быстрая, она напоминала пугливую олениху, готовую в любую секунду сорваться с места и исчезнуть.
Нюрка окончила шесть классов сельской школы, и ей сразу поручили уход за свиньями. Этим назначением гордилась мать Нюрки и сама она: все-таки не часто доверяют колхозное животноводство совсем молоденькой девчоночке. Значит, она чего-то стоит, если доверили.
Нюрка действительно многого стоила, и доверять ей было за что. Тоненькая, ловкая, непоседливая, вся в мать, с неистощимым запасом энергии и выносливости, она всю себя отдавала работе, потому что иначе и не могла, а может, еще и потому, что ничто другое в жизни пока ее не занимало. Она ни в кого еще не влюблялась, на молодежные пляски, на беседки не ходила, книги читать не приучилась.
В Нюрку тоже никто еще не влюбился: потому ли, что мала была очень да молода, а может, потому что не было в ней той внешней привлекательности, из-за которой парни влюбляются в девушек с первого взгляда: худенькое костлявое личико, носик острый, рот широк не по лицу, никаких ямочек ни на щеках, ни на подбородке, и волосы жиденькие — либо еще не успели отрасти, либо такими на всю жизнь останутся. А ту неброскую внутреннюю красоту, которой было у Нюрки с избытком, тот огонек, который сжигал ее всю, не давая даже округлиться хоть немножко, люди замечали не сразу, молодые пареньки тем более. Миловидность кидается в глаза с первого разу, а чтобы разглядеть красоту внутреннюю, доброту и свет души, требуется время да время. У пареньков этого свободного времени не было, как и у Нюрки: все работали со школьной скамьи, все куда-то спешили, даже целовались с девчатами по вечерам как-то наспех, торопливо.
И Нюрка не унывала от того, что в нее не влюблялись. Ну, не любят, так не любят, экая важность, не до этого сейчас. Ведь сама-то она тоже никого не любит. Когда придет время да охота — полюбится, и беспокоиться об этом пока не стоит.
На свиноферме у Нюрки было две напарницы: Евлампия Трехпалая, женщина лет сорока пяти, работящая, злая, умевшая криком кричать беспрерывно с утра до вечера, затем молчать по двое, по трое суток кряду; да Пелагея Нестерова, соломенная вдова, брошенная мужем сразу после войны, ленивая, не любившая даже разговаривать без надобности, валовая, как определяют таких медлительных людей в деревне.