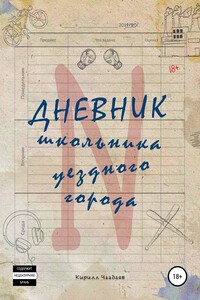Одинокий и злобный,
Слежу я
За старушками в магазине
Быть немецким мальчишкой
В Лос-Анджелесе двадцатых…
Мне приходилось тяжко.
Антигерманские нравы тогда
Цвели пышным цветом -
Последствия Первой мировой.
Стаи местных парней
Гоняли меня по округе И орали:
«Держи, держи немчуру!»
Поймать меня они не сумели ни разу.
Я был словно кот.
Я знал все ходы и выходы
Скверов и переулков.
Я вмиг перемахивал через ограды в шесть футов,
Исчезал на задних дворах, в дальних кварталах,
На крышах гаражных и в сотне других укрытий.
Но, в общем, они не больно-то и старались
Меня поймать, боялись – вдруг да пырну ножом
Или просто выколю глаз!
Длилось все это чуть меньше полутора лет,
А потом прекратилось – как-то резко и враз.
Меня кое-как признали (не слишком, но все же),
Я большего и не желал.
Эти сукины дети были американцы,
Они родились здесь, отцы их и матери – тоже.
Их звали Бейкеры, Салливаны и Джонсы.
У них были бледные лица и часто – толстые пуза.
У них текло из носов, и на их поясах
Красовались огромные пряжки.
Я решил – никогда не стану американцем!
Героем моим был барон Манфред фон Рихтхофен,
Легендарный немецкий ас,
Уничтоживший восемьдесят их лучших пилотов,
И с этим они
Ни черта не могли поделать.
Их родители не выносили моих
(Я сам, кстати, тоже).
Я решил: вырасту – буду жить
Где-нибудь типа Исландии,
Никогда никому не стану дверь отпирать,
Буду жить чем пошлет Бог,
Жить с прекрасной женой и дюжиной диких зверей. Вот так все примерно и вышло!
German
Она была очень тощей, седенькой, сгорбленной.
Она каждый день стояла у самых дверей
Первого международного банка Сан-Педро.
Люди входили и выходили,
Она подбиралась поближе
И тихонько
Просила милостыню -
У этого или того…
Когда у меня просят денег,
Процентов на семьдесят пять
Я подаю, но в двадцати пяти прочих
Инстинктивно чувствую неприязнь -
И просто не ощущаю
Желания подавать.
Старушку у банка я невзлюбил сразу,
Довольно долго она была мне неприятна.
Мы понимали друг друга уже без слов -
Просто я вскидывал руку жестом отказа,
А она торопливо шла прочь.
Это случалось так часто,
Что она
Запомнила мое лицо и больше не подходила.
Как-то днем я, сидя в машине,
Следил за ней.
Из ее двадцати попыток
Семнадцать были удачны.
Она снова тихонько кого-то взяла за рукав…
Я уехал – и вдруг ощутил
Острое чувство вины за свою толстокожесть,
За привычку отказывать старой деве.
А позже
На ипподроме, что в Голливудском парке,
Между шестым и седьмым заездом,
Я снова встретил ее, она пробиралась
Между рядами.
Сгорбленная и тощенькая,
В костлявой ручке зажата
Толстая пачка купюр.
Ясно, она собиралась поставить
На следующий забег.
У нее, конечно, было полное право
Здесь находиться,
Ставить свои деньги с нашими наравне.
Она ждала и желала
Того же, чего желают и ждут
Едва ли не все люди, -
Удачи.
Я наблюдал: вот она
Дошла до конца прохода,
Остановилась, заговорила
С молодым человеком, он улыбнулся
И протянул ей квитанцию.
Я решил – хватит мне отвлекаться,
Поднялся и отошел
К окошку тотализатора,
Чтобы сделать свою ставку.
Возвращаясь к себе на место,
Я спускался по лестнице, а она
Поднималась навстречу.
Мы встретились взглядом, и машинально
Я поднял руку -
Тем самым жестом, который она
Так часто видала у банка.
Она посмотрела в упор,
Голубые глаза не мигали. И, проходя
Мимо меня по ступенькам,
Она сказала:
«Пошел ты!»
Конечно, она права.
Это – закон выживания.
Так поступает компания «Дженерал моторе»,
Так поступаете вы,
Так поступают кошки,
Так поступают птицы, нации и народы.
Так поступаю я, наши близкие так поступают.
Даже боксеры – и те так иногда поступают!
Это случается всякий раз,
Когда вы покупаете хлеб,
Часто это становится ужасом и безумьем -
И случается вновь,
Случается в кабинетах врачебных
И в переулках ночных,
Везде где угодно,
Ежесекундно,
Снова и снова -
Все мы хотим выжить!
Это – не побороть.
Это – привычно.
Это – обычная жизнь,
Уж так оно есть.
Я вернулся и сел.
Хотел поразмыслить,
Но так ничего толкового
И не придумал…
Когда же лошади
Вырвались из ворот
Под свист пригнувшихся к седлам жокеев,
Одетых в шелк -
Оранжевый, голубой,
Слепяще-розовый, желтый,
Салатовый и зеленый
(Безумная радуга сдержанной ярости),
По крикам толпы хлестнуло
Солнечным светом…
И я неожиданно понял – мы все навеки
Запутались в созданных нами самими сетях.
И я немедля простил
Старой деве
Ее принадлежность.
The Old Girl
Резко, отчаянно
В воздухе пахнет убийством,
Когда меж ветвями снуют летние птицы,
Шумно щебечут, смущая воображение…
Попугай престарелый,
Сроду не говоривший,
Сидит, размышляя, в китайской прачечной -
Сердитый,
Забытый,
Безбрачный.
Перья его крыльев -
Алые, не зеленые,
Мы с ним узнаем друг в друге
Собратьев по долгой, впустую истраченной жизни.
…Вторая жена меня бросила из-за птиц -
Я выпустил их из клетки.
Желтая – та, со сросшимся плохо крылом -
Слетела влево и вниз,
Свистящая, точно органные мехи,
Кошачья добыча;
Вторая – та,
Ядовито-зеленые перья,
Пустая головка с наперсток -
Ракетой взлетела ввысь,
В небо пустое,
Исчезла, точно угасшая страсть,
Точно вчерашнее желанье,
Покинув меня
Навеки.
Когда же моя жена
Вернулась домой ввечеру,
Вся – пакеты, планы, надежды,
Уловки и ярая жадность, -
С сияющим видом
Сидел я над перышком желтым
И музыку впитывал слухом -

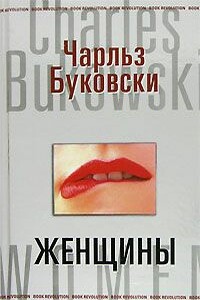
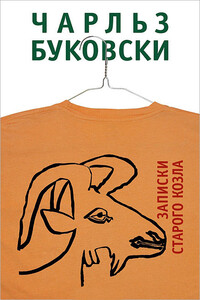
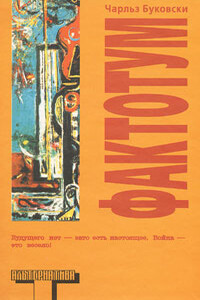


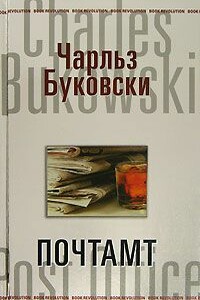
![Санкт-Петербургский бал-маскарад [Драматическая поэма]](/storage/book-covers/99/998451e0a9e556fcd5c22718ac0068d73558d85f.jpg)