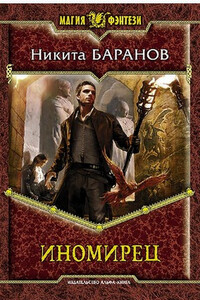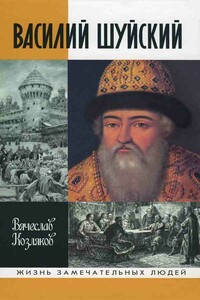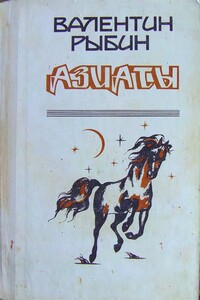Пробуждение было тяжким: затылок разламывало болью, во рту пересохло, тело не слушалось. Вместо того чтобы упруго вскочить с ложа, Ратьша, покряхтывая, словно старый дед, откинул с себя полость, из медвежьей шкуры, и уселся на краю. Голову кружило, боль буравила затылок, однако, вставать надо — нужда настоятельно звала в отхожее место. Ратьша набрал воздуху, напрягся и вскинул непослушное тело на ноги. Пошатнулся, поставил ноги пошире, обретая равновесие, и сделал первый шаг. Гладко струганные половые плахи приятно холодили подошвы ног. Он тряхнул головой, поморщился от прихлынувшей боли и решительно зашлепал босыми ногами к выходу из горницы. Потом по коридору до заветной дверцы. Ратьша не любил держать ночной горшок, где спал, потому приказал в свое время отгородить рядышком маленький чуланчик. Там стояла лохань с соломой, которую дворовые каждое утро выносили и хорошенько отмывали.
После совершения нужных дел, малость полегчало. Даже голова стала болеть, вроде, меньше. Только жажда мучила по-прежнему. Поскрипывая ступенями, боярин спустился вниз по лестнице и, миновав короткий коридорчик, вошел в трапезную. В просторном помещении дух стоял тяжелый. Длинный стол на полсотни человек до сих пор не прибран: узорчатая полотняная скатерть залита медами и бражкой, завалена обглоданными костями и объедками, вокруг которых вились мухи. По столу лениво ползали осы, то взлетая, то снова плюхаясь на липкие ароматные лужицы пролитого меда. На полу застеленном свежей соломой в самых живописных позах разлеглись вчерашние бражники — дружинники боярина Ратислава. Его, Ратьши дружинники. А вперемешку с ними вятьшие люди сельца — Крепи, расположившегося рядышком с укрепленной боярской усадьбой, носящей то же название. Даже не усадьбы — небольшой крепости, построенной Ратиславом, пять лет тому.
С улицы в широко распахнутую двустворчатую дверь вошла Меланья — боярская ключница, мамка Ратислава, воспитывавшая его с самого рождения. В крупных, натруженных руках она держала приличных размеров деревянную чашу. Не сразу углядев со свету проснувшегося боярина, дошла до середины трапезной и только тут, увидев Ратьшу, нахмурившись, проворчала:
— Что, княжич, болит головушка-то?
— Да не княжич я, мамка, не княжич. Сколько говорено, — поморщившись, привычно возразил Ратислав. — В бояре, это да, пожалован. Смотри, при чужих не ляпни.
— А что мне чужие! — возвысила голос Меланья. — По рождению — княжич, а быть ли, не быть князем, то, как Бог даст.
И уже потише и поласковей:
— На ко, испей. Чай сушит похмелье-то? Да и от больной головы я туда травок заварила.
Ключница протянула Ратьше чашу. Тот принял ее и отхлебнул. Кисловато-солоноватый терпкий напиток погасил, тлеющую внутри жажду, рассеял туман в голове.
— Хорошо! — крякнул боярин и в несколько глотков осушил посудину. — Благодарствую, спасительница, — возвращая чашу, произнес он. — Все хочу спросить, из чего сие зелье варишь?
— Да уж, сколько разов говаривала, княжич. Да ты, видать, опосля пиров непамятлив. Вот помру, кто тебя с похмелья выхаживать будет? Рассол капустный, да клюква мятая. Хоть это запомни. Про травки даже говорить не буду — ин, без толку.
— Помру, помру, — передразнил Ратислав. — Последняя живая душа, что меня младнем знала. Нет уж, мамка, живи и здравствуй. Да и чего тебе помирать, не старуха ж еще. А давай мы тебя замуж выдадим. Вон хоть за Окула — конюха. — Боярин кивнул, на возникшего в дверях, здоровенного мужика, обросшего дикой черной бородой, с деревяшкой вместо левой ноги ниже колена. — Он хоть и без ноги, но мужик, хоть куда. А на коне, так и любого молодого за пояс заткнет. Ты как, Окул, возьмешь мою мамку в женки?
Услыхав про такую напасть, грядущую на его бедную голову, конюх шарахнулся прочь от двери и быстро, испуганно оглядываясь, заковылял к скотьему двору, изображая, что внезапно вспомнил о каком-то крайне неотложном деле. Дородное тело Меланьи колыхнулось в беззвучном смехе.
— Замуж? За наших? Уж больно боятся меня здешние мужички. Разве за какого пришлого просватаешь, княжич.
Что да, то да — ключница в отсутствии Ратислава держала боярскую усадьбу, да и прислонившееся к ней сельцо, в железном кулаке. И наказы ее хоть мужики, хоть бабы исполняли только что не бегом. За глаза Меланью величали ведьмой. По правде сказать, было за что. Ратьша привез ее, пять лет назад из разоренного, вымирающего селения мерьского племени Ивутичей, из которого была родом и его мать. Племя это издревле славилось своими колдунами, да ведьмами. Через то и пострадало от слуг, крепнущей Христовой Веры. Добили ивутичей, впрочем, булгары, совершившие полтора десятка лет назад большой набег на граничившие с рязанскими землями области. Подлили масла в огонь и слухи о несметных сокровищах, которыми с незапамятных времен владели старейшины племени этого, когда-то сильного и славного народа. Один из булгарских отрядов добрался до скрытого в приокских чащобах главного селения ивутичей. Враги вырезали сонными его защитников, захватили в полон молодых баб, девок и чад. Старейшин долго пытали, добиваясь, где запрятаны сокровища. Однако находники остались ни с чем. Были сокровища, нет ли — осталось тайной, которую старики унесли с собой в могилу. В ту страшную ночь погибла мать Ратьши, а сам он чудом спасся.